[parts style=”text-align:center”]
[phead]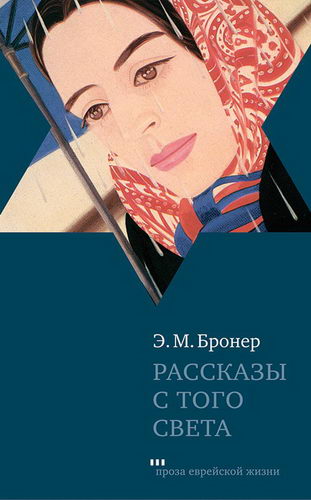 [/phead]
[/phead]
[part]
Всё о ее матери
Эстер М. Бронер
Рассказы с того света
Пер. Олеси Качановой. — М.: Книжники: Текст, 2014. — 203 с.
Как писательницу Эстер М. Бронер (1927–2011, урожденная Эстер Френсис Массерман) больше всего интересовала жизнь женщины, особенно жизнь еврейской женщины в современном мире. Ее наиболее известные книги — «Ее матери» (1975), «Сплетение женщин» (1978), сборник «Женская агада» (1977, совместно с Наоми Нимрод).
«Рассказы с того света» (1995) — это попытка взглянуть на историю сквозь судьбу отдельного человека. В книге два рассказчика, принадлежащих к разным поколениям, но к одной семье и к одному народу: мать и дочь, которые, как кажется сначала, не слышат и не понимают друг друга.
Обе героини — типичные представительницы каждая своего поколения. Мать, миссис Эппельфельд, эмигрировала из России в Америку, спасаясь от еврейских погромов. Дочь Лейла — современная интеллектуалка, уже и во взрослом состоянии стесняющаяся своей матери (акцент, «непрезентабельный внешний вид»).
Первые страницы романа погружают читателя в мир одинокой старой женщины, тоскующей по своему ушедшему мужу, медленно умирающей и перестающей ладить с окружающим: «Мир сделался чересчур ярким — переизбыток солнца и уличных огней. Закрываю глаза…» Мир для нее не просто чересчур ярок, он становится враждебен, даже собственные дети представляются врагами: «Меж тем соседка напротив шпионит за мной из‑за плотных штор… Они (дети. — М. Н.) надеются провалить меня на экзамене и отправить туда, куда до жути боятся попасть все старики».
Несмотря на долгую болезнь, дочь оказывается не готовой к уходу матери: «Никак не угомонюсь. Мне так не хочется, чтобы она уходила». Именно в эти дни Лейла понимает, насколько важно запомнить все то, что знала ее мать, — от песен, кулинарных рецептов до уклада жизни русских евреев:
«Арум дер файер
Мир фрейлех танцн.
— О чем ты поешь, мамочка?
— Я не то чтобы пою, скорее, вспоминаю… как лихо мы отплясывали там вокруг костра.
Меня вдруг охватывает желание расспросить обо всем, что она помнит».
Это возвращение в прошлое, разговор с дочерью продляют жизнь миссис Эппельфельд: «Ей хочется улизнуть от меня в сновидения. — А другие рецепты? Песни? Ты пела мне колыбельные?» Воспоминания матери о жизни до эмиграции в Америку полны горькой иронии: «В этих песнях ребенку сначала сулят горькую судьбинушку, а потом желают спокойной ночи. Потому еврейские дети такие серьезные». Лейла не знает идиша, не знает колыбельных, эта среда для нее уже не является родной, поэтому ей трудно понять свою мать.
Если в первых трех главах представлены непересекающиеся взгляды двух женщин, то, начиная с «Песни», между миссис Эппельфельд и Лейлой появляется диалог, который продолжится и после смерти первой. Глубоко символично, что тогда мать и дочь встретятся в зеркале: «Заглядываю в зеркало и поверх своего изображения вижу лицо матери. Хотела причесаться, а тут — она, приглаживает свои густые, волнистые волосы».
Мать и дочь — одно целое. Да, у них разные привычки и вкусы, но сущность у них одна на двоих. Это символически проявляется, когда мать обрызгивает дочь своими духами:
Внезапно она хватает флакон, нажимает на распылитель и опрыскивает меня.
Я вскидываю руки.
— Не надо! Не надо!
— Теперь, — заявляет мать, — ты пахнешь в точности как я…
Мотив зеркальности появляется вновь, внезапно две женщины узнают, что испытывали друг к другу одно и то же чувство:
Мне стыдно за нее. Я вдруг поняла, что всегда ее стыдилась… Теперь мы молча сидим рядом, пытаясь в оставшиеся месяцы узнать, наконец, друг друга. Неожиданно мама поворачивается ко мне.
— Мне всегда было за тебя стыдно, — говорит она…
У матери и дочери есть год для того, чтобы узнать и понять друг друга, они встречаются в синагоге каждый вечер пятницы и неизменно ведут меж собой разговоры. По мере того как женщины узнают что‑то друг о друге, стена непонимания между ними окончательно рушится. Однако у миссис Эппельфельд есть вопросы не только к своей дочери:
— Если Он наш Отец, наш Щит, неужели ему было трудно защитить нас во время Холокоста?
— Нашла время спрашивать, — говорю.
— Лучше поздно, чем никогда, — возражает мать…
На протяжении последней недели траура Лейле снится один и тот же сон: «…как мы с ней едим. Весь стол уставлен тарелками, тут сразу и второе, жаркое или курица, и суп, и салат. Не надо вставать за переменой». Этот непрекращающийся пир («не надо вставать») во сне — одновременно и поминки, и напоминание о возрождающейся жизни, ведь именно еда, процесс ее приготовления — один из символов жизни в романе: миссис Эппельфельд почти перестает есть, а дочь все время пытается ее накормить, перед самой смертью в палате мать и дочь обсуждают именно кулинарные рецепты, и это будто продлевает дни старшей из женщин. Но жизнь продолжается только для Лейлы. После последнего кадиша мать утешает дочь, убивающуюся по несостоявшейся жизни: «Пока не умер, все возможно», уходя навсегда и оставляя в душе Лейлы чувство невозвратимой потери.
[author]Мария Нестеренко[/author]
[/part]
[phead]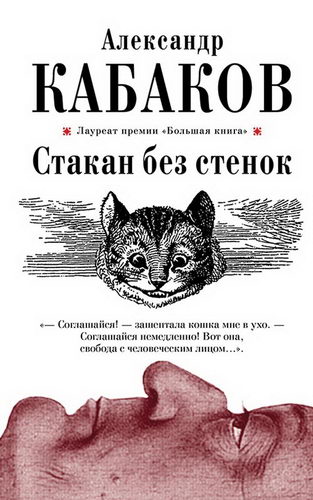 [/phead]
[/phead]
[part]
Внук портного, сын ракетчика
Александр Кабаков
Стакан без стенок
М.: АСТ, 2014. — 253 с.
Чего только не собрал в свою новую книгу писатель Александр Кабаков. Тут и повесть о любви «Все свои» — этакий вольный ремейк «Битвы жизни» Диккенса. Коллекция микроэссе. Сатирический рассказ об олигархе, заснувшем в машине в «пробке» на Рублевском шоссе. Три текста, как бы продолжающих цикл «Московские сказки», когда‑то выходивший отдельной книгой. Несколько опусов на железнодорожную тему. Путевые заметки о великих городах мира — Риме, Пекине, Нью‑Йорке, Лондоне, Париже… (судя по некоторым признакам, написанные лет десять назад). Серия некрологов — или, скорее, очерков памяти близких автору людей.
Случайное собрание текстов, написанных в разное время и по разным поводам? На первый взгляд да. Но в этой концепции явственно просматривается желание автора сделать предельно личный сборник.
К тому же в этих, быть может, второстепенных для писателя текстах содержатся разного рода ключи и «примечания» к его прозаическим сочинениям. Например, в Барселоне — «городе теней и видений» — разворачивается часть действия романа «Самозванец». Очерк памяти отца отчасти повторяет сюжет романа «Все поправимо». В сказке «Алиса, или Стакан без стенок» лирический герой, пожилой писатель, уходит из дома вместе с говорящей (и притом хорошо начитанной!) кошкой. Для Кабакова такой сюжет совсем не удивителен. «Всю жизнь я пишу о побеге… в метафизическом смысле. Но никогда не мог решиться».
Постичь законы метафизики герою сказки (он же отчасти ее автор) помогают случаи из повседневной жизни:
Я налил водку в стакан, и он исчез. Точнее, исчезли стенки стакана, испарился граненый цилиндр. Прозрачная жидкость растеклась по столу, тонкие ручейки побежали с краю столешницы, в центре образовалась мелкая выпуклая лужица.
— Видишь? — сказал я Алисе. — Нет формы, но содержание никуда не делось, оно просто заняло больше пространства. Так что не будет никакой развязки, и вообще сюжет я сворачиваю. Да его и не было, сюжета…
Путешествия по знаменитым городам тоже чем‑то напоминают побег — от экскурсовода и стандартных маршрутов. Туристом, как признается Кабаков, он быть не умеет: любит осматривать города мимоходом, на бегу, пользуясь оказией. Ему больше всего нравится «бесцельно болтаться по улицам», вступать с чужеземным городом в какие‑либо нетривиальные отношения. Например, в Париж Кабаков как‑то раз приехал из Москвы поездом. В Лондон он тоже рекомендует прибывать не самолетом, а по железной дороге и на пароме. Вообще, автор не упускает случая продемонстрировать свой консерватизм. Из британской столицы он увозит твидовый пиджак, вельветовые брюки, добротные ботинки и кепку раритетного фасона (которую затем, правда, чуть не забывает в пекинском ресторане).
Ему интересны люди старой закалки и твердых принципов, кудесники слова и настоящие мужчины. Михаила Генделева автор впервые встретил на «знаменитом чердаке» своего однофамильца художника Ильи Кабакова в начале девяностых. В самом облике Генделева писателю сразу понравились «изысканная местечковость», склонность к театрализации и китчу, дендизм «виртуозно эпатирующего пижона». Они мгновенно подружились. Но израильского поэта и московского прозаика объединяла не только «легкомысленная любовь к вещам», но и кропотливая работа со словом. «Стихи его (в последние годы жизни. — А. М.) становились всё точнее, каждое их слово попадало в безошибочно определенную невидимую цель — как радиоуправляемая ракета с вертолета». В этой фразе — дань уважения не только к Генделеву‑поэту, но и к Генделеву — военному врачу, отлично умевшему обращаться с боевым оружием. Для сына офицера‑фронтовика это важная деталь.
Очерк‑воспоминание об отце «Офицер Советской армии» — самый личный текст в сборнике. В названии нет ни капли иронии: Абрам Кабаков много лет служил в железнодорожных, затем в ракетных войсках, прошел Великую Отечественную, после войны в составе команды Королева подготовил пуск первой советской баллистической ракеты. На полигоне Капустин Яр в те годы, замечает Кабаков, работало много инженеров‑евреев — в газетах травили «космополитов» и «врачей‑убийц», но для создания атомной бомбы нужны были люди с хорошим техническим образованием. После увольнения из армии с должности, которая затем стала генеральской, отец писателя работал простым гражданским инженером. Сын портного из Курска, он одновременно был офицер и джентльмен, простолюдин и аристократ. Даже спорить с женой о распределении домашних обязанностей Абрам Яковлевич считал ниже своего достоинства и без лишних слов шел за овощами на Дорогомиловский рынок. Его (как и многих людей того поколения) отличало «неумение быть счастливым», пишет Кабаков. Даже два известных автору бытовых физических конфликта на «еврейской почве», в которые вступил отец в 1950‑х и 1960‑х годах, были не столько проявлением национального самосознания, сколько реакцией советского человека и коммуниста на оскорбление какой бы то ни было нации. Не случайно, признается писатель, автобиографических героев своей прозы он наделял и некоторыми чертами отца.
[author]Андрей Мирошкин[/author]
[/part]
[phead]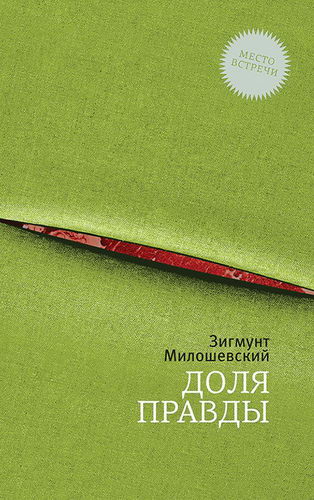 [/phead]
[/phead]
[part]
Просто, как кровь
Зигмунт Милошевский
Доля правды
М.: Текст, 2014. — 420 с.
Начнем с цитаты из романа. «На холсте были запечатлены евреи, скупающие детей у христианских матерей, проверяющие, словно скотину на ярмарке, в добром ли они здравии, были там и евреи‑душегубы, и спецы по сцеживанию крови из бочки, набитой гвоздями». Для того чтобы понять, о какой картине идет речь и какую роль это полотно сыграло в сюжете книги, придется отмотать ленту нашего повествования назад…
Что мы знаем о польском городке Сандомеже? Расположен на берегу Вислы, население составляет около двадцати пяти тысяч человек, есть стекольные заводы и полдюжины памятников средневековой архитектуры. Историки напомнят еще про дочь тамошнего воеводы Марину Мнишек, которая однажды стала женой нашего Лжедмитрия I. В общем, информации негусто. Варшавский прокурор Теодор Шацкий, решивший после развода начать жизнь в провинции с чистого листа, на первых порах тоже не очень понимает, куда его, собственно, занесло. Захолустье, где «костелов больше, чем кафе», его поначалу умиляет, потом удивляет, затем начинает раздражать. Теплолюбивый прокурор злится на здешний климат и нестоличный сервис («полюс холода, вонючая деревня, глушь»), а главное, ему, специалисту по особо тяжким преступлениям, нечем заняться: жители, похоже, «не убивали в принципе. Даже не пытались. И не насиловали, не организовывали преступных банд. Лишь изредка устраивали драки». Словом, тоска, безделье, а в перспективе потеря квалификации… Как вдруг тихое болото взбаламучено происшествием — настоящим предумышленным убийством. Прокурору наконец‑то есть где развернуться: «У него появился приличный труп. И вот, как по мановению волшебного жезла, эта кошмарная, сонная дыра стала вполне сносным жизненным пространством».
Шацкий предвкушает все профессиональные радости неторопливого и скрупулезного сыска, но, как вскоре выясняется, тишины и приватности ждать не придется. Расследование без нагнетания страстей невозможно. Расчетливый преступник делает все, чтобы инсценировать «ритуальное еврейское убийство» — точь‑в‑точь такое, каким его представляет польский обыватель и каким оно запечатлено на упомянутой вначале картине‑страшилке: та до сих пор хранится за ширмой в одном из костелов, оформленном триста лет назад по заказу сандомежского архидиакона Стефана Жуховского («истинного христианина и патентованного антисемита»). Фальшивые улики, подсмотренные на картине и подкинутые на место происшествия, становятся первыми камешками лавины. Ядовитые слухи множатся, пресса пускается во все тяжкие, и уже вновь ползут разговоры о пересмотре отношения к евреям, «к их роли в истории Польши и нынешней политике», и уже вылезают демагоги с рассуждениями о том, что‑де «поляки у себя в стране обрели роль национального меньшинства». Да, прокурор Шацкий знает свое дело и в конечном счете разоблачит злоумышленника. Но ему придется преодолевать препятствия, о которых он, профессионал сыска, даже не помышлял.
«Польский детектив, вот смеху‑то! Такой же детектив, как и все остальные. Что это за детектив такой, когда там ни хрена не происходит, да еще с самого начала известно, кто убил». Эти комичные упреки, вложенные в уста одного из второстепенных персонажей, не приложимы к самому рецензируемому роману. Зигмунт Милошевский — писатель опытный: недаром «Доля правды» вскоре после выхода на польском была удостоена «Награды наивысшего калибра» за лучший криминальный роман года. В книге происходит много неожиданного; размышления героев грамотно переплетены с action (чего стоят, например, сцены поисков в подземелье — хоть сейчас на киноэкран). Читатель изначально догадывается, что «еврейский след» инсценирован, но личность убийцы почти до финала остается в тени.
Впрочем, «Доля правды» — все же не вполне детектив. Автору важно не только предъявить убийцу, но и понять, почему преступнику так легко удалось пустить общественное мнение по ложному следу. Взрыв, который прогремит в финале, символичен: убийство — тот же детонатор, способный привести в действие старую бомбу, причем этой бомбой вдруг оказывается весь Сандомеж — «религиозный город с антисемитским прошлым». Сандомеж, где на протяжении столетий польско‑еврейские взаимоотношения часто принимали форму погромов и где «последние антисемитские выступления случились сразу же после войны». Сандомеж, в котором, «как нигде, живо предание о заклинании кровью». Зубы дракона, посеянные несколько столетий назад, еще могут, оказывается, дать всходы.
У прокурора Шацкого все в порядке с дедукцией, однако ему то и дело преграждает путь «река проклятой польской ксенофобии, которая издревле течет под поверхностью земли, поджидая момента, когда можно будет прорваться наверх и залить все окрестности». Провокация дает обывателю повод выйти за рамки благопристойной терпимости, и из прорех сыплются национально‑религиозные фобии: казалось бы, предубеждения давно должны были уйти в небытие, рассыпаться в пыль… но поглядите, вот они, тут как тут.
[author]Роман Арбитман[/author]
[/part]
[/parts]

Четверо детей
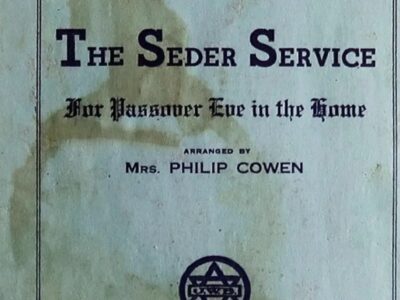
Первая Пасхальная агада, ставшая в Америке бестселлером


