[parts style=”text-align:center”]
[phead]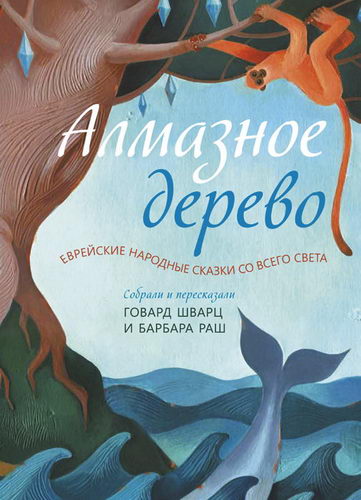 [/phead]
[/phead]
[part]
«Давным‑давно, в незапамятные времена…»
Говард Шварц, Барбара Раш
Алмазное дерево
Перевод с английского Валерия Генкина. М.: Книжники; Текст, 2015. — 88 с.
Говард Шварц и Барбара Раш &mdash американские ученые, собиратели еврейского фольклора. Они давно знакомы читателям как составители ранее изданных «Книжниками» сборников: «Пальто для луны» (2010), «Субботний лев» (2014), «Чудесное дитя» (2012), «Золотой Иерусалим» (2013). Сейчас на суд родителей и детей вынесен их труд со столь же тщательно подобранным и красивым названием: «Алмазное дерево».
Как и в сборниках «Чудесное дитя» и «Пальто для луны», в новой книге объединены еврейские сказки, собранные и записанные в разных уголках мира: Йемен соседствует с Польшей, Ирак и Марокко с Германией, — география еврейской сказки повторяет географию еврейского мира, а это значит, что источники еврейской сказки — повсюду на земном шаре. Но составители брали свои сказочные сюжеты не только из устного фольклора, но и из таких еврейских текстов, как Талмуд, мидраши, «Алфавит Бен‑Сиры» (ранняя антология еврейского фольклора), хасидские легенды и др.
В предисловии, написанном для родителей, Г. Шварц и Б. Раш рассуждают о том, что же на самом деле представляет собой народная сказка. В их понимании, она — первый учитель ребенка, а потому играет в его жизни ключевую роль: отвечает на самые главные вопросы, в раннем детстве закладывает в его сознании нравственные ориентиры, которым он следует в течение всей жизни.
Как отмечают составители, еврейские сказки учат детей и основополагающим идеям иудаизма — честности, верности, милосердию, взаимопомощи, — и более практическим вещам: например, тому, как опасно открывать двери дома незнакомцам. Справедливо будет сказать, что там, где возвышенное и обыденное ставятся для детей на один уровень, еврейские сказки неуловимо отличаются от Шарля Перро, братьев Гримм и других известных сборников западноевропейских сказок.
Сказки украшены прекрасными, яркими иллюстрациями молодой художницы Марии Шишовой — это большой бонус для маленьких читателей. Второй бонус в том, что их легко читать: каждая из них невелика по объему и переведена хорошим литературным языком (заслуга Валерия Генкина).
[author]Елизавета Вельяминова[/author]
[/part]
[phead]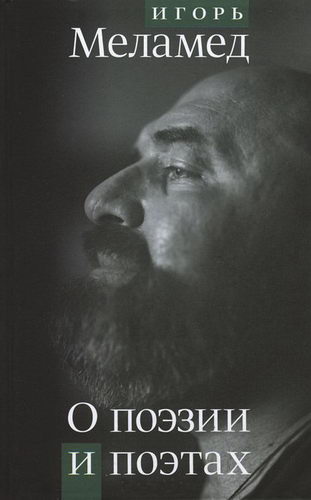 [/phead]
[/phead]
[part]
С последней прямотой
Игорь Меламед
О поэзии и поэтах: Эссе и статьи
М.: ОГИ, 2014. — 204 с.
Критическая статья или эссе для поэта — особый жанр, поскольку именно в нем может проясняться эстетическая позиция автора, и в этом отношении Павел Басинский совершенно прав, говоря в предисловии, что «их (статьи. — М. Н.) лучше читать вместе со стихами… Это тот случай, когда разговор о поэзии подкрепляется самой поэзией». Игорь Меламед (1961–2014) создал себе репутацию неоклассика. Корни своей поэтической родословной он видит в Золотом и Серебряном веках, а в критических статьях поэт, подобно Дон Кихоту, сражается с ветряными мельницами постмодернистской литературы. Но эта позиция не так проста, как кажется. Игорь Меламед отнюдь не отрицает всю современную поэзию. Главная хворь современного литературного процесса, с точки зрения поэта, — «всеразмывающий плюрализм», когда поэт и «литературная чернь» перестают различаться, Меламед напоминает, что «нетерпимость в искусстве неизбежна, даже желательна».
Как поэта Игоря Меламеда раздражает присутствие в современной ему ситуации той самой литературной черни, которую постмодернистская оптика уравнивает с авторами первой величины. Ему можно было бы возразить, что так было во все времена, но кто сейчас помнит, например, Надсона? Меламед говорит о ситуации в общем, о тенденции. Его идеал в поэзии — благодатно даруемое совершенство: «“Вершинным” поэтам XIX столетия Тютчеву, Фету и Некрасову эта простота давалась относительно легко: они еще дышали последним воздухом Золотого века. Блок и Гумилев, Ходасевич и Георгий Иванов, Пастернак и Заболоцкий приходили к ней разными, порой извилистыми и тернистыми путями. Многие из них на этом пути преодолевали собственную, уже вполне сложившуюся эстетику».
Этой «простой» поэзии, она же совершенство, противопоставлено самовыражение — те, случаи, когда фигура автора заслоняет собой написанное, по Меламеду, — это те стихи, в которых поиски в области формы ставятся выше смысла. Вершинное явление совершенной поэзии — «благородство пушкинской простоты». Размышляя над тем, почему эта самая пушкинская простота, или пушкинский канон, оказалась как бы скомпрометирована, Меламед пишет: «Благородство пушкинской простоты постепенно профанировалось набирающим силу разночинским утилитаризмом, по‑своему и в своих целях отрицавшим “условные украшения стихотворства”». Логическим завершением этого процесса стал примитив официальной советской поэзии. Другая линия разрушения пушкинского канона соотносится с футуристами. Меламед сбрасывает футуристов с корабля современности с тем же упорством, что и сами футуристы когда‑то «сбрасывали» Пушкина: «Футуризм был своеобразным антиподом пушкинского аристократизма: он не признавал иерархии ценностей, разрывал с традицией…» Достается даже принятому всеми Владимиру Маяковскому: «…поразительно, каким образом Маяковский имитировал поэзию за отсутствием состава самой поэзии: плоская сентенция камуфлируется головокружительной инверсией, а хлесткая рифма и ошеломительная метафора создают иллюзию содержательной глубины».
Игорь Меламед, разумеется, не первый и не единственный ревностный служитель пушкинского канона. Здесь его предшественники — Владислав Ходасевич (которого поэт признает своим учителем) и Марина Цветаева. Временами Меламед как бы играет в Ходасевича. Игра вообще, как бы ни отрицал ее поэт в своей эссеистике (например, эссе «Искусство красить заборы»), была свойственна его поэтике. По сети гуляют гетеронимы, созданные Меламедом: Ирина Перетц, Сёма Штапский, Антон Мисурин.
Меламед не против иронии как способа борьбы с пошлостью, но он против того, что «прикол» и «стёб» непомерно выросли в своих семантических объемах: сегодня они означают и образ мышления, и модель поведения, и культурное содержание». Меламед констатирует: «Борясь с советской пошлостью, ирония сама выродилась в пошлость. Причина — в отсутствии чувства меры, той самой пушкинской “соразмерности и сообразности”».
[author]Мария Нестеренко[/author]
[/part]
[phead]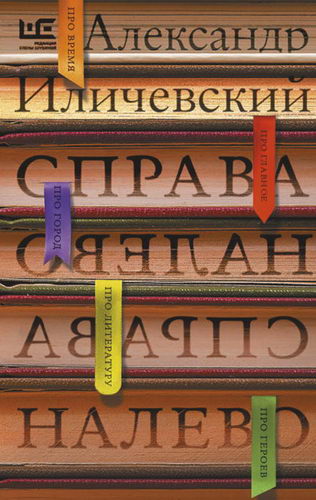 [/phead]
[/phead]
[part]
Бой культуры в провалах эпохи
Александр Иличевский
Справа налево
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — 576 с.
При всем (очень большом) уважении и симпатии к прозе автора, эта — несомненно нон‑фикшн, а так о жанровых определениях можно и спорить: книга едва ли не лучшая у А. Иличевского. Потому что если вам (как и мне) не хватает в современной литературе интеллектуальной густоты, а уж о сочетании со стилистической отточенностью и мечтать не приходится, вот и перечитываешь классику, это — отнюдь не повод рефлексировать о внезапно подкравшейся старости и изменившихся вкусах. «Справа налево» оправдает все ожидания, захватит и окажется даже больше, чем ждали. Правда, те же монтеневские максимы и рассуждения о поэтике Мандельштама читаются со скоростью качественного детектива, не отпускают, как самое хитовое guilty pleasure чтиво.
Но что же с жанром? Скажем вольно: это такой универсальный нон‑фикшн, opus magnum жанра в том смысле, что здесь есть все поджанровые подвиды, но при этом книга отнюдь не рассыпается, а, наоборот, прирастает кумулятивным единством. Как раз разделение на части: «Зрение», «Слух», «Вкус», «Память» и т. д. — можно счесть немного излишним, потому что темы перетекают, рифмуются, иные мысли и байки появляются в разных контекстах, наращивая семантический спектр. Ведь «Справа налево» — это и травелоги, и воспоминания, и отрывки из прозы (и поэзии!), байки, афоризмы, found life (помните такой ЖЖ‑жанр?) и даже что‑то, что изящно танцует, как Заратустра над рыночной площадью на канате, между всеми этими поджанрами.
Воспоминания о подмосковном детстве, студенческие байки МФТИ, ностальгическая уже Москва 1990‑х, тайны подвалов РАН, древние каталонские карты, зарисовки израильских улочек и портрет (sic!) одинокой старой собаки, смотрящей на море. Каталония, Каспий (Иличевский передает привет воспевавшему Баку Афанасию Мамедову — вспомним еще и Василия Голованова с его недавней «Каспийской книгой»), юность в Америке, поездка по любимой Армении (буквально одновременно с этим изданием корпус армянских травелогов пополнился двумя прекрасными книгами — «От Москвы…» Петра Алешковского и «Цавд Танем. Армянский дневник» Ирины Горюновой), жизнь в загадочном Тель‑Авиве (если уж вспоминаем вышедшие почти одновременно и, право, достойные того травелоги, то тут — «Дорожный иврит» Сергея Костырко). Чехов и Бабель, Толстой и Целан, Диккенс и current reading/классика. Музыка? Малер и «Утомленное солнце» Цфасмана, музыка джазового Фриско и шум городов. Кино? Линч и Тарковский, Триер и Герман‑старший. Вкус разных земель и воспоминаний. И много, много чего еще.
О том же Германе заметка была, очевидно, посвящена смерти режиссера, и вот мастерство Иличевского: ощущения, что тут, как в большинстве подобных сборников, собраны все тексты «по случаю» и «за отчетный период», — нет, не возникает ни на миг. «Наталья Михайловна Козырева говорит, что считает творчество Каплана одним из источников охранения утраченного национального наследия. Я соглашаюсь и думаю, что камни Каплана крепче надгробных плит, что способность творчески осмыслять место жизни — чисто еврейская. Ибо евреи всегда были пришлыми — их метауровень описания всегда находился ступенькой выше, и отсюда постоянная рефлексия и творческая тяга осмыслять время и место жизни». Здесь можно, конечно, спорить, но тут заключена, как представляется, главная мысль, движущая этими заметками. У Мисимы есть работа «В защиту культуры», — у Иличевского, родившегося в день и год покончившего с собой в том числе в защиту определенных идеалов Мисимы, разговор имплицитно идет именно в ключе культурной апологии.
Потому что один из главных мотивов сохранения культуры — даже не борьба с «нашествием варваров», но страх утраты, ощущение, увы, чужеродности высокой культуры и окружающего. И, что крайне немаловажно и даже является, пожалуй, главной заслугой любого неравнодушного человека, — сохранение этой культуры прежде всего в самом себе. И вот это — важный мотив книги Иличевского. Потому что даже не столь важно, о каком именно упадке культуры географически он сожалеет (о нынешней России или Европе — те же разрушающие древние статуи террористы сейчас не знают границ), важно, что он скорбит о культуре, сигнализирует о том бое за нее, который, что уж греха таить, проиграли все мы, вся эпоха ХХ века. «Все значительные писатели, рожденные вместе с XX веком, — Бабель, Платонов, Булгаков, Олеша, Набоков — пишут только об одном, в сущности: о всестороннем абсолютном провале эпохи. Остальное относится к воспеванию пустоты, тут трудно преуспеть. Отрицательный опыт ценен именно потому, что дает смысл выжить. Не столько способ, хотя и его тоже, сколько смысл. Это на руку естественному отбору, который как раз и канонизирует трагедию — при снисходительном отношении к другим жанрам».
И, конечно, такая разная и масштабная книга Иличевского — это такой в средневековом смысле этого слова кодекс в защиту культуры, элегия о ее утрате и апология возможности ее возвращения через всеобщее осознание этой утраты и признания в том вины. Рассказчик Иличевский не зря вспоминает мысль из Талмуда о том, что мир — это всего лишь кем‑то рассказанная история.
[author]Александр Чанцев[/author]
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Вещи мира
Рони Сомек
Барс и хрустальная туфелька: Стихи разных лет
Перевод с иврита Л. Байбиковой М.: Книжное обозрение (АРГО‑РИСК), 2014. — 48 с.
Полтора года назад в издательстве «АРГО‑РИСК» была основана новая поэтическая серия «Дальним ветром»: предполагается, что в ней будут выходить переводы авторов из самых разных стран и принадлежащих самым разным традициям. Важно отметить, что почти все переводы выполнены российскими поэтами: так, книга Остапа Сливинского переведена коллективом авторов, а сборник французского поэта Клода Руайе‑Журну — Кириллом Корчагиным. В этом смысле книга Рони Сомека «Барс и хрустальная туфелька» видится некоторым исключением: ее перевела Елена Байбикова, которая, насколько мне известно, стихов не пишет, зато много переводит с японского. Что касается Сомека, то он родился в Багдаде в 1951 году, но еще ребенком переехал в Израиль. В Тель‑Авиве он изучал словесность и еврейскую историю и на сегодня является не только поэтом, но и литературным критиком и педагогом. Кажется, случай подобного совмещения уже давно стал привычным: поэт становится внимательным читателем чужих текстов, когда бы они ни были сочинены (тысячу лет назад или вчера).
В упомянутой поэтической серии «Дальним ветром» уже выходила книга одного израильского автора: «Гёльдерлин и другие стихотворения» Исраэля Элираза. Он, скорее, принадлежит к поколению великого Дана Пагиса с его очищенной от всего лишнего речью, проговариваемой словно сквозь зубы. Поэт Александр Авербух пишет, что для текстов Исраэля Элираза «реальность ближайших вещей, на которых останавливается взгляд, — это чувственный опыт и единственный источник достоверного знания». Нечто подобное можно сказать и о текстах Рони Сомека, у которого каждый камень говорит о многом, куст растет во всех направлениях и все это пронизано культурными аллюзиями. Причем культура в этом мире — повод для веселой и легкой игры, парадоксальной и умной шарады, которая напоминает читателю не столько сюрреалистические упражнения, сколько игровую стихию виановской «Пены дней»:
Если бы у меня была еще одна дочка,
Я назвал бы ее Алжир.
Утром она бы распахивала глаза, шоколадного цвета,
И я говорил бы ей: «Вот и Африка просыпается»,
А она гладила бы сестру по русой головке,
В твердой уверенности, что вновь открыла золото.
Сквозь повседневность — которая вынуждена отступить на второй план — проступает воображаемое, непривычное, магическое. Обычные, казалось бы, предметы начинают играть самыми разными цветами и отблесками. Все, что попадает в поле зрения поэта, моментально преображается: можно даже сказать, что это своего рода галлюциноз, не имеющий, впрочем, тяжелых последствий. Стихи Сомека не трансгрессивны, поэт, скорее, стремится залатать провалы в реальности, а не расширить их, чтобы заглянуть в бездну за очередной порцией последних вопросов. (Скорее уж Сомек зачарован, говоря словами Д. А. Пригова, «предпоследними вопросами».) Художественная реальность способна вместить многие, порой неожиданные мотивы: главное, правильно их инструментовать. Для этого поэту и необходимо воображение, которое не только изменяет предметы (как уже было сказано), но и выхватывает из повседневной рутины множество разных прекрасных созданий, таких как «Димона»:
Димона, красотка‑мулатка,
Растянувшаяся в полный рост на пляжном полотенце пустыни.
Ей дела нет до той электрички,что внутри пролегла позвоночником железнодорожным,
А рельсы и шпалы — грудная клеткажелезной доисторической твари.
Впрочем, есть в книге «Барс и хрустальная туфелька» и тексты тревожные, в которых привычная для Сомека игра фантазии захватывает и образы насилия, войны. Так, в стихотворении «Багдад» ориенталистски описанные особенности города не отменяют того, что именно в нем поэту «прострелили жизнь» (то есть речь о рождении?). В стихотворении «Пуговицы» — годящемся для того, чтобы украсить любую антологию, — поэт размышляет о том, что любая пуговица, которая могла бы продаваться в магазине некоего Н., имеет свой негативный эквивалент – слоновую кость (из‑за которой убивали животных), пулю Второй мировой, наконец, пуговицы:
Оторванные вроде бы как с рубашки его кончины —
Там, на пуговицах песка, нашитых
Грядой холмов по всей длине одеяний…
Но и обращаясь к тревожным сюжетам прошлого, Сомек не отказывается от преображающей реальность фантазии, этого свежего глотка воздуха.
[author]Денис Ларионов[/author]
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Украденная репутация
Ефим Динерштейн
Синяя птица Зиновия Гржебина
М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 448 с.
Мало кому так не повезло в истории русской культуры начала ХХ века, как Зиновию Гржебину (1877–1926). Он начинал как художник и стал в итоге издателем, одним из самых интересных и влиятельных. С ним дружили многие классики, от Блока и Леонида Андреева до Горького. Но простыми эти отношения не назвать, периоды сближения часто заканчивались скандалом (см. о Гржебине: Леонид Юниверг. «Человек астрономических планов» // Лехаим. 2010. № 1).
Фундаментальная биография Ефима Динерштейна рассматривает все аспекты биографии, начиная с рождения Зелика (Зейлика) Шиева (Зиновия Исаевича) Гржебина в городке Чугуеве Харьковской губернии (о детстве мало что известно, даже точная дата рождения под вопросом) и до его смерти в Париже — в долгах, покинутого бывшими друзьями, в непонятно откуда взявшейся атмосфере всеобщего недоверия и наветов.
Детство тоже прошло под знаком бедности, многодетная семья отца, бывшего николаевского солдата, обосновалась в комнате водонапорной башни. Но Гржебин избежал многих тягот черты оседлости: четвертьвековая служба отца в армии давала ряд привилегий. Окончив в Харькове художественное училище, он поехал учиться в Мюнхен, затем в Париж.
Считается, что на берегах Сены Гржебин увлекся сионизмом — об этом недолгом факте биографии в книге написано вскользь, хотя и отмечается его интерес к еврейской теме в дальнейшем. Так, в издававшемся им журнале «Отечество» «была опубликована статья известного российского лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ “Своеобразная „круговая порука“”», более трети текста которой было изъято цензурой и заменено многоточиями. Статья была посвящена обретшему особую актуальность в конце 1914 года «еврейскому вопросу». По заключительной фразе, оборванной цензором, можно все же судить о ее направленности: «В связи с укреплением чувства законности находится тоже экономическое преуспеяние страны и ее вес в международных отношениях. К сожалению, всякие рассуждения по этому и по всем подобным вопросам остаются гласом вопиющего в пустыне».
А во втором номере «Отечества» появилась статья В. Г. Тана «Еврейские части» с рисунком М. Соломонова «Типы беженцев‑евреев». Как отмечает Динерштейн, «далее тема еврейских беженцев практически не сходила со страниц журнала». Почему? В качестве ответа приводится цитата из работы современного историка В. Кельнера, посвященной Семену Дубнову: «Военные поражения требовали срочного объяснения, и власть пошла по давно проторенному пути. По мере приближения фронта к местам, населенным евреями, они обвинялись в шпионаже в пользу немецкой армии и в массовом порядке принудительно выселялись в глубь страны. Значительное количество евреев в ходе скоротечных военных судов приговаривались к смерти. В ход пошла система заложничества мирного населения».
Революция породила у Гржебина‑издателя немало надежд. Но проект «Всемирной литературы» на практике оказался скромнее связанных с ним планов. В разрушенной стране печатать книги казалось невозможно, Гржебин пытался наладить их публикацию за границей. Он уехал в Берлин, тогдашнюю столицу российского книгоиздания. В 1918–1924 годах русских книг на берегах Шпрее выходило больше, чем в Петрограде и Москве: 86 издательств выпустило около 2200 названий. Десятую часть из них издал Гржебин, финансовую поддержку которому обещали новые власти. Но договоренности с Госиздатом не были выполнены. Гржебина обвиняли в финансовых злоупотреблениях, его вообще всю жизнь преследовали оговоры, кампании против него велись и до, и после революции, словно какой‑то рок тяготел над его добрым именем.
Среди недоброжелателей и друзья, и коллеги по совместной работе. Чуковский ехидничает в адрес Гржебина в дневнике, Горький, подаривший ему в 1919 году права на сборник избранных рассказов, позже фактически отозвал дар. Ситуация выглядела двусмысленно: писатель настаивал, что имел в виду конкретный сборник, его бывший издатель полагал, что речь о полной передаче авторских прав. Гржебин находился в середине 1920‑х в тяжелом финансовом положении, конфликт с Горьким во многом ускорил его кончину. Динерштейн подробно исследует их отношения, используя, как и при изучении других биографических сюжетов, материалы многих хранилищ, от ГАРФа и РГАЛИ до РНБ и РГАСПИ. Всего почти полтора десятка архивов, примечания в книге занимают 37 страниц — вот цифры тщательно выполненного труда. Впрочем, его значение определяется не статистикой.
[author]Алексей Мокроусов[/author]
[/part]
[/parts]

Новая волна, старая земля

Супермен, иммиграция и евреи

