[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2002 ТЕВЕС 5762 — 1 (117)
ЯКОБ ВАССЕРМАН
Стефан Цвейг

От переводчика
Якоб Вассерман (1873-1934) – немецкий писатель, крупный реформатор немецкого романа. В России известны его романы: «История юной Ренаты Фукс» (1900, рус. пер. 1928), «Каспар Гаузер» (1908, рус. пер. 1926), «Человек с гусями» (1915, рус. пер. 1925), «Дело Маурициуса» (1928, рус. пер. 1936).
В открытом письме швейцарскому литературоведу и критику, заведовавшему отделом в газете «Нойе Цюрихер цайтунг» (февраль 1936), Томас Манн писал: «...Еще недавно в связи с биографией Вассермана, написанной Карльвейс, Вы, со свойственной вам точностью и прозорливостью, рассуждали о процессе европеизации немецкого романа. Говоря об изменении типа немецкого романиста, происшедшем благодаря таким дарованиям, как Якоб Вассерман, Вы замечали: под действием интернационального компонента еврея немецкий роман стал интернациональным. “Интернациональный” компонент еврея – это средиземноморский европейский компонент, а таковой является и немецким; без него немцы были бы не немцами, а ненужными миру лодырями...» (Перевод С. Апта)
Письмо, опубликованное в газете, послужило предлогом к лишению Т. Манна германского подданства. Написано это письмо было после смерти Вассермана. Стефан Цвейг написал о роли Вассермана в европеизации немецкого романа в 1912 году, когда талант писателя был на взлете.
Читателю будет интересно сравнить оценки Якоба Вассермана, данные Ст. Цвейгом и Т. Манном.
Статья впервые опубликована в «Neue Rundschau» в августе 1912 года. На русском языке не публиковалась.

Город во Франконии, где родился Вассерман.
В Германии многие думают, что уже длительное время, возможно, после появления «Вертера»[1], немецкое искусство рассказа утратило влияние на мировую литературу. То, что было создано у нас в области беллетристики на протяжении последних ста лет, безусловно предназначено лишь для национального, домашнего употребления и наш торговый баланс по эпосу и поныне ужасающе пассивен. Перелистываешь английские, французские, итальянские каталоги, стремящиеся объединить образцы искусства рассказа разных стран и с некоторым удивлением, с большой обидой не находишь среди сотни, а часто нескольких сотен книг ни одного немецкого произведения. Безусловно, это не случайность, а значит, действительно такой скрытый недостаток в немецкой литературе существует. Даже наши наиболее выдающиеся так называемые романы – «Вильгельм Мейстер» и «Зеленый Генрих»[2] при всей их высокой значимости для каждого, кто ищет в книге психологические переживания, конечно же, нельзя считать чисто эпическими произведениями, — трагический рок, – единственным немецким романом, который смог бы стать книгой всемирной литературы, была объемная рукопись, переданная Генрихом фон Клейстом незадолго до кончины своему издателю, использовавшему ее как макулатуру. Рассказчиком в высшем смысле может быть только свободный, не занятый собой человек, человек, который подобно не имеющему конкретного образа Протею[3], способен постоянно подавлять свое Я, сливаться с создаваемым им образом, выдавать его мнения за свои, способен в процессе творчества перестать быть сущностью — телом и душой, – сохранить лишь разум и способности видеть, слышать, говорить. Немцы же, каждое художественное произведение которых является лишь поводом приблизиться к себе самому (а не к миру), стремлением создать глубоколичное произведение (а не внешнее произведение), похоже, противятся предельному саморазрушению, не могут достичь совершенной способности к превращениям, условию обязательному для идеального рассказчика. Немецкие прозаики подобны тем актерам (часто сильно подчиненным воле режиссера), которые в создаваемых ими образах никогда себя не теряют, в их игре всегда присутствует что-то от их Я, вместо того чтобы полностью исчезнуть в творческом сновидении. Наши самые значительные романы – я уже называл «Вильгельма Мейстера» и «Зеленого Генриха» – находятся в плену своей двойственности при воспроизведении переживаний, они, если обратиться к геометрическим представлениям, никогда не являют собой полностью заключающиеся друг в друге круги мира, нет, это касательные – от личности автора к миру. У них не произведение – круг, символ безупречной замкнутости, а творец, и не художник завершает себя в произведении, а человек (который собственно, безразличен для произведения). Сочинение о личных переживаниях – не просто выдумка, и растущая замкнутость создателя в себе мстит в созданном им. И лучшие романы нашего времени, которые несравненно более настоятельно, чем все прежние, нуждаются в художественно-теоретическом обсуждении – назову лишь «Будденброки» Томаса Манна, «Путь к свободе» Артура Шницлера, «Лудольфа Урслея» Рихарды Хух и «Саменцинда» Гессе – представляют собой преобразованные личные переживания, воспоминания глаза и уха вместо свободной выдумки, и все они таят в себе опасность с первым непосредственным воспроизведением пережитого предать весь свой внутренний мир. Я очень люблю все перечисленные книги, – поэтому не буду указывать на их недостатки и попытаюсь лишь поговорить относительно несовершенства их жанра. И действительно, всемирная литература подтвердила это несовершенство – ни одно из перечисленных выше произведений не получило где-либо за границей успеха. Личностная культура, унаследованная от Гете, представляется нам роком. У каждого немца в крови метафизический инстинкт копаться в художественном произведении, он отвергает свободное изложение, непринужденный, пожалуй, игривый легкий характер выдумки (англичанин беллетристику именует «fiction»[4] и этим определением попадает в самую точку), что всегда особенно характерно для большого рассказчика. Поэтому совершенно закономерно, кроме Томаса Манна, безусловно подающего самые большие надежды на создание действительно немецкого романа, два писателя – Генрих Манн и Якоб Вассерман уже своими книгами показали, что освободились от немецкой традиции. Генрих Манн – благодаря романтическому происхождению[5] и, прежде всего, из-за внутреннего неприятия всего буржуазного, явления, нынче так угрожающего немецкому искусству ожирением, Якоб Вассерман же – из-за сильно выраженной в нем расовой необычности и тяготения к чистой эпике – другого, подобного ему в Германии сейчас найти невозможно.
Я сказал, Якоб Вассерман уходит от этих традиций. Уходит, так как он еврей. Еврей не только потому, что принадлежит к определенной конфессии, а в значительно более глубоком, более живом смысле. У большинства писателей-евреев Германии еврейство уже давно перестало быть внутренним ядром их сущности, оно осталось лишь неким видом их интеллектуального зрения, характером воззрений, не несущим созидающего начала духовным механизмом и поэтому являющимся скорее препятствием, тормозом высшему творческому напряжению. Это культурное еврейство почти никогда не было и не могло быть питательной средой искусства, так как оно представляет собой слишком тонкий слой, что обусловливает то удивительное отсутствие корней, которое, правда, компенсируется возрастающими возможностями приспосабливаться, обусловленными ассимиляцией. Под воздействием бесчисленных превращений, преобразований, отфильтровок и смешиваний, ветхозаветное для них стало таким далеким, что подобных культурных евреев евреями называть уже нельзя так же, как современных итальянцев – римлянами, а греков – эллинами. Связь Вассермана со своей расой значительно сильнее, он не только «окрашен» еврейством, а почти исключительно им определяется, хотя из всех современных немецких прозаиков-евреев, он вместе с Ю.Ю. Давидом кажется самым немецким. Он происходит из того уголка во Франконии, где еврейские общины осели сотни лет назад и в длительном противостоянии местному населению благодаря своей замкнутости сохранили национальную самобытность и, тем самым, национальные творческие традиции. И вследствие таинственной полярности напряженных противоречий стихийная первобытная сила еврейского видения мира оказалась ближе к немецкой, чем к другим нациям, поскольку и евреи, и немцы стремились к общей конечной цели – к некоему морально-метафизическому одухотворению всей жизни; правда, стремились чрезвычайно разными методами, но с единым высшим мировоззрением, в какой-то степени соответствующим знаменательной близости Спинозы и Гёте в конечных точках их духовного состояния.
Но если у немцев эта идея единства – прирожденная и нуждается лишь во внутреннем совершенствовании и облагораживании, у еврейства она приобретена, завоевана. Мартин Бубер в своей знаменательной речи о еврействе нашел изящную формулировку этому явлению – оно заключается в постоянном дуализме, неизменно стремящемся к единению. Эта дуальность духовной и чувственной сфер для художника при внутреннем представлении мира выражается в выборе между видением и анализом. Уже Ветхий Завет, высший образец еврейского искусства, таит в себе первичную форму этой раздвоенности – в нем и по восточному роскошные описания событий, и математически чистые формулировки идеи, скрывающей в себе склонность к духовному закону, который по бесконечным ступенькам поднимается к некоей нечувственной форме Б-га, возможно, самой значительной логической идее мира.
Вассерман, дарование которого коренится в ветхозаветном восточном еврействе, развил в себе обе эти антагонистические титанические силы – пылкую, типично восточную фантазию, предрасположенную к чувственно-таинственному, лирическому изобилию, перекрещивающуюся, однако, с надежным здравым смыслом, с аналитической интуицией; оба эти начала желают творчески проявиться, оба они резко противятся друг другу. И рост Вассермана-художника – в их примирении, в преодолении их антагонистичности возрастающей волей человека к чистому искусству. Сначала не очень-то обремененный чувством ответственности писатель давал обоим этим началам свободу творить; у него имеются книги, созданные только на основе бесцельного чувственно-таинственного начала («Александр» и удивительный пролог к «Евреям из Цирндорфа»), но есть и такие, которые представляют собой лишь дистиллят действительности («Молох» и Диалоги по теории искусства) – в их основе лежит аналитическое начало. Однако творческий рост писателя определился исключительно той могучей силой, с которой он эти независимо друг от друга работающие начала смог объединить, смог слепую силу чувственного отдать целенаправленному интеллекту, сделал возможным логическое упорядочение чувственного и таким образом сформировать в своих книгах художественное восприятие мира, равноценное врожденному стихийному – чувственному.
Ибо искусство целостного восприятия мира Вассермана – это подтверждают его истоки, его раса – не естественное, не прирожденное, как у большинства великих прозаиков, оно приобретено, завоевано. Существуют художники, которым оно изначально даровано. Такими были Лев Толстой, Готфрид Келлер, Чарлз Диккенс – все они писатели, художнический космос которых существует рядом с реальным миром, но идентичен ему благодаря некоей «заранее установленной гармонии» восприятия, причем космос художника всегда непостижимым образом остается идентичным любому мимолетному событию реального мира (это также подтверждает гениальность их представления мира). Художника, создающего лишь на основании видения, можно в известной мере уподобить дальнозоркому человеку, перед глазами которого исчезает все реальное, и события как бы возникают в облачной дали, тогда как художник-аналитик, наоборот, словно близорукий, видит все реальное, но из-за отчетливого наблюдения всего близкорасположенного теряет перспективу.
У искренних, естественных, «чистых» прозаиков видение мира нормальное, их зрение воспринимает даль и близь в правильных соразмерностях, они видят все отчетливо, ясно, без искажений. Такие художники – ведь простое, несложное так необычно, встречается в жизни крайне редко, – эти чрезвычайно одаренные природой личности, их художнический мир достигает изначальной тождественности с реальностью.


Вассерман не относится к таким дарованиям. Он, как и всякий увлекающийся человек, сначала имел склонность к вымыслу, к фантазированию, утрировал, преувеличивал значимость мира чувств, причем одновременно – в этом проявляется присущая ему как еврею раздвоенность – пытался как аналитик скепсисом разрушить свой вымысел. Беспокойным было начало его творческой деятельности, развитие его таланта подобно движению вокруг некоей точки равновесия, столь необходимой эпическому художнику для творческого объединения его антагонистических друг другу способностей. Никто из молодых писателей не работал так упорно и осознанно, как Вассерман, над всеми элементами повествования, над стилем и формированием образов, и поэтому развитие его мастерства являет собой одно из прекраснейших проявлений напряжений сил художника в борьбе за внутренний порядок, в борьбе, начатой из чистого чувства чести при возросшем понимании связанных с этой борьбой трудностей. Девять десятых энергии, потраченной Вассерманом на создание художественных произведений, потрачено на отвергнутые им варианты. Его воля к чистому эпическому искусству – одно из героических стремлений таланта к своему внутреннему совершенству, воля, подобная той, которая была присуща Флоберу, демоническая борьба, которую воля человека ведет против сил природы, против судьбы.
Углубившись в книги Вассермана, можно даже по первым его работам понять, как болезненно страдал он из-за врожденной двойственности, можно почувствовать его страстное желание найти непосредственного человека. В его книгах мы увидим высший образец жизни, чистого, прямодушного человека (подобного князю Мышкину у Достоевского), просто, без комплексов думающего, не подавленного чувственностью, не угнетенного логическими построениями. Во всех образах Вассермана прослеживается эта исполненная страстного ожидания идея освобождения, противопоставления себя миру без оружия, постижение мира без какого-либо посредничества. Его «Агатон» был первым из этого ряда, потом «Добрый» с Ансельмом Вандерером, характер которого еще не определился, человек еще не приблизился к Агатону, к символу преодоления еврейской двойственности. Затем следует роман «Каспар Гаузер» с художественным образом человека абсолютно свободного от влияния всех рас и от предубеждений, а рядом женственность чистой «Ренаты» и целомудренной «Виргинии». Во всех этих книгах – ясный, прямодушный, следующий инстинктам человек – по Вассерману идеал совершенства.
И всегда возле или сзади этих образов – противопоставление, свойственный Вассерману прием – параллельными линиями даются описания отрицательных персонажей, сопровождающих положительных героев и при их взлете, и в опасностях, которые тем удается избежать. Стефан Гудштиккер – лжец, Эрвин Рейнер – обманщик, Арридеус – софист, все характеры, которые позже покажет Вассерман в «Литераторах», люди с обманчивыми личинами, сопровождающие чистых, прямодушных, словно тени; и всегда не полностью преодоленная двойственность подкарауливает единство. Такова большая идея Вассермана, идея Непосредственности, Прямодушия, она незримо присутствует во всех книгах писателя, подобно тому, как над всеми светлыми и мрачными картинами Библии незримо витает образ безымянного Б-га.
И для того, чтобы к этой чистоте персонажей подняться с равной им чистотой созидания, для того, чтобы объединить это земное совершенство с равным ему по совершенству искусством, писатель отдал пятнадцать лет титанических усилий. Он еще не у цели, ни разу не завершен в его книгах этот идеальный образ нового человека мира: каждый раз погибал этот образ, не завершенный искусством, не созревший для мира автора. Первый из этих образов, Агатон, у Вассермана преждевременно умер, Каспара Гаузера, юношу, автор лишил общения с женщинами, Рената извелась, предаваясь грезам, Виргиния увязла в действительности. Еще не создан идеал, еще не написана история Беатуса, сына Агатона и Ренаты, освободителя и освобожденного, история свободы от обеих рас, свободы, которой не грозят никакие опасности. Лишь над самим собой, художником, в эти годы напряженнейшей работы одержал Вассерман победу, но своей лучшей книги еще не написал.
Есть у Вассермана две книги, написанные им очень рано и теперь забытые, которые ничего не говорят о серьезных проблемах искусства, занимающих писателя в последующих его книгах. Я бы назвал эти две книги беззаботными. Они не были написаны при том болезненном осознании предельной ответственности, характерной для последующих лет, нет еще в них стремления сдержаться от желания претворить пережитое в его описание, однако по укрощенному стилю чувствуется неосознанно оказываемое сопротивление любому лиризму духа, бьющему ключом ритму экстаза. Название одной из этих книг – «Мелузина», другой – «Спишь ли ты, мама?». Обе они автобиографичны, но назвать их произведениями Якоба Вассермана нельзя.
Действительно, первая работа подлинного Вассермана – «Евреи из Цирндорфа» едва ли не самое необычное, поразительное и при всей своей запутанности гениальнейшее произведение нашей новой литературы. Это одно из тех произведений-первенцев – равно предательских для автора и несущих ему опасности, – которое пророческими руническими знаками[6] повествует о всем последующем развитии автора, о всех ожидающих его переживаниях: подобно иным художественным работам, движется такое произведение словно лунатик по ночной тропе с неимоверным трудом и, сознавая опасности пути, последуют за ним другие работы автора. Титаническая сила чувствуется в этой книге, в ощущении мира жаждущей возвращения материнской целостности, в отчаянной тоске, в страстном желании сразу же, единым порывом отважно захватить в кулак все проблемы жизни.
Я хотел бы именно тогда встретиться с Вассерманом, пылким и находящимся в замешательстве, в этот, – я бы сказал, вулканический период, когда он всю свою кровь хотел влить в одно единственное произведение, когда он задумал нечто грандиозное, освобождение себя самого в символе, уничтожение своей расы, создание нового мифа о новом Спасителе (подобно тому, что двадцать лет спустя Гергард Гауптман попытается в «Эмануэле Квинте» создать для нашего мира то, что хотел сделать для русского мира Достоевский). Едва освободившись от еврейских традиций, Вассерман бросает еврейскому миру пламенеющие мысли, вырванные им из глубин этих традиций: мессианскую идею, в которой глубоко коренится весь еврейский идеализм. Ибо этот Агатон, чистый апостол смятенного мира – подумать только! – желает дать своему лишенному Б-га народу новую веру, вновь, как однажды еврей из Измира Саббатай Цеви[7] хотел спасти мир (так хотел освободить свою Россию Алеша Карамазов). Вассерман передал Агатону всю свою неистраченную страсть, все силы перевозбужденной расы, но художнику, в нем недостало сил, чтобы сохранить Агатону жизнь. Агатон, которому автором предопределено было стать Христом, в «Евреях из Цирндорфа» получился Иоанном, провозвестником, а не Спасителем. Видения, которые в историческом прологе начали в нереальности свой невероятный полет, разбились о действительность: дуализм художнического принципа – это проклятие расы – заставил Вассермана поспешно, с юношеским нетерпением завершить произведение. Остались лишь фрагменты «Евреев из Цирндорфа», не внешние, а внутренние – «Прафауст»[8] Вассермана, хаос возможностей, в котором судьбы не движутся как звезды, подчиняясь неким законам, а носятся, словно метеоры. В то время Вассерман еще не обладал достаточным мастерством художника, только воля была у него, смелая, безбоязненная; и лишь тогда, когда спираль его развития вновь вернется к некоей высшей точке, у которой он тогда необоснованно поспешно скомкал свою работу над «Евреями из Цирндорфа», годы работы покажут, что он как художник созрел.
Тогда он был еще слишком слаб, чтобы дать законченный образ своего идеала непосредственного, прямодушного человека, и боясь испортить, предпочел уничтожить этот образ, чтобы позже создать другой, отвечающий своему идеалу. Он позволил Агатону исчезнуть в незаконченном произведении, в своем следующем романе, в «Истории юной Ренаты Фукс», в произведении, которое среди книг Вассермана до сих пор пользуется наибольшей популярностью. Популярность эта обусловлена случайными, второстепенными причинами и, прежде всего, интеллектуальным поветрием, жгучей проблемой времени, женским вопросом. Но и в этом романе присутствует внутренний мотив – идея ясного, изначального отношения к миру. Рената Фукс, воля которой, естественно, обращается к непосредственным переживаниям, к эротике, следует чистым чувствам и ради защиты облекает свою душу в панцирь, который должен уберечь ее от всех злосчастий жизни. Сначала Рената – опять судьба художника претворяется в трагедию героев – вследствие какого-то страстного нетерпения безрассудно, слепо расточает свои лирически возбужденные силы, соблазняясь внешним, видимым, не проверяя ценность чувств этого внешнего. Подобно Агатону, дающему ей искупление, она оказалась еще одним ищущим, находящимся в процессе становления незавершенным образом, однако уже полным понимания никчемности искусственной культуры слова, которую в романе символизирует Гудштиккер, поверхностный поэт, литератор, представляющий собой опасность лишь для отраженной, а не действительной, живой жизни. Роман, правда, еще с недостаточной силой, вторгается в действительность. Повышенная оценка женщины, основанная, пожалуй, на мгновенном переживании, имеет здесь, как и у многих художников, по моральным соображениям, сентиментальную окраску, призрачный порыв постоянно подавляется наступательным вмешательством действительности.
Чем ближе Вассерман в этих первых книгах к изображению непосредственного человека, тем отчетливее проявляется недостаточность его художнического мастерства (такое заключение можно дать по его последующим романам). Здесь, в этом произведении образы выбрасываются на сцену, как из распахнутых дверей действительности, еще «тепленькие», вторгаются в сюжет и исчезают, мешая движению быстро вращающегося маховика действий, заслоняют собой внутренний свет. И здесь чье-то нетерпение смещает акцент действия; так же, как в «Евреях из Цирндорфа», поспешно построенная, утяжеленная множеством деталей искусственная конструкция романа начинает в последних главах романа трещать и внезапно разваливается. Сверкающая огненными красками, но внутренне холодная фантасмагория – единение в смерти Агатона и Ренаты – сжигает кропотливо собранный материал драгоценных наблюдений.
Вероятно, сбитый с толку успехом книги о Ренате Вассерман захотел углубиться в действительность и решил в следующей книге, в романе «Молох», бросить свои юношеские силы на решение тяжелейшей художнической задачи, на освещение злободневной темы. В это время в Австрии одна еврейская семья вела процесс против преступника, насильственно крестившего ее ребенка. Процесс этот вызвал чрезвычайно сильное волнение в стране. Вассерман задумал написать роман времени, такой вид произведения, искусства, для создания которого требуется не только талант рассказчика, но и полная уверенность в истинности фактов, на которых строится роман, незаурядная художническая уравновешенность и, прежде всего, абсолютная беспристрастность (ибо роман времени, созданный пристрастным автором, становится памфлетом). Всем этим требованиям талант Вассермана, которому была присуща двойственность, в полной мере тогда не удовлетворял, поэтому «Молох» – самый неудачный его роман, возможно, единственный промах при выборе темы (вообще-то инстинкт всегда подсказывал ему счастливую тему). И в этой книге присутствует мысль о непосредственном, чистом человеке, мысль, которая, как мне кажется, является лейтмотивом юности автора. Чувствуется, Вассерман сам понимает, что разработку этой темы ему не осилить, он постоянно «обкатывает» ее, обгладывает со всех сторон, словно собака большую кость, которую не в состоянии ухватить и сгрызть. Он играет со своей большой идеей, нетерпеливо хватает ее, а она каждый раз ускользает от него, он же не оставляет ее в покое и с благородной целеустремленностью большого художника продолжает бороться с ней, словно с ангелом, до тех пор пока тот его не благословит[9]. Здесь в романе «Молох» эта освобожденная идея впервые оборачивается трагической стороной, она не показывает, как человек через дикий хаос жизни пробивается к внутренней убедительной ясности, а наоборот, мы видим омрачение, потускнение идеала, гибель чистоты в трясине страстей. Уже в «Истории юной Ренаты Фукс» Ансельм Вандерер, спорный герой, показан автором как-то неопределенно, то творческой личностью, то просто фигляром, то близким к Агатону, то – к Гудштиккеру. В этой же книге наличествует освобождение от иллюзий, разочарование в идее внутреннего совершенства действительности – вероятно, это связано с подавленным состоянием, с депрессией художника. «Молох» отражает внутренний кризис Вассермана, это подтвердит его последующий творческий подъем. Собственно, этими тремя книгами писатель вынес себе приговор – я имею в виду иносказательно, – осудил себя за то, что опрометчиво определил преждевременную смерть своим образам, которых сначала думал довести до полного совершенства. Все они, Рената, Агатон и герой «Молоха», еще недостаточно непосредственны, еще не вполне творческие личности, не полностью освободились от всей грязи расы, от связи с ней, все они несут в себе тяжелую, черную кровь еврея-мечтателя. Они еще борются с жизнью, вместо того чтобы, повзрослевшим, играть ею. Уничтожив эти образы, Вассерман уничтожает в себе великую волю, владеть которой – он чувствует это, – пока еще у него нет достаточных сил. Он знает, что не должен безрассудно тратить себя в этих хрупких образах, что ему следует беречь себя, чтобы идти к решению последней задачи, которая (может быть однажды, с годами) объединит все эти ранние попытки: историю Беатуса, Счастливца, сына Агатона и Ренаты, миф о рождении ребенка двух рас, о ребенке, зачатом в объятиях Жизни и Смерти, Надежды и Разочарования, и тем самым будет достигнута его, художника, высшая цель, достижение которой будет по силам поднявшемуся до совершенства мастерству.
Первый достойный восхищения героический штурм реальности этими тремя книгами не удался. Живая жизнь слишком своевольна, чтобы со страстью отдаться в горячую минуту, она требует от художника безусловной верности и терпения. Такое упорядочивающее распределение творческих сил свойственно лишь художнику зрелого возраста.
У Вассермана – пауза для самосознания, она по времени совпадает с измерениями его внешней жизни, с женитьбой и переездом в Вену. Здесь горячий, легко возбудимый человек вступает в кружок литераторов, которые, испытывая чувство суровой личной ответственности за создаваемое ими, постоянно внутренне согласовывали свои силы с поставленными перед собой творческими задачами. И Вассерман учится у них. Следуя этому принципу, сдерживая, жестко ограничивая себя, он созревает как художник. Его воля более уже не слуга двух господ, фантазии и анализа, теперь она объединяет оба эти начала и вдохновляет его при создании произведения в едином порыве к искусству – к искусству письма, повествования, разработки образов, к осознанному творчеству.
Необузданный, анархичный Вассерман начинает понимать, что гениальность – это терпение также. Флобер станет его учителем, великие швейцарцы Келлер, Конрад Готфрид Мейер возьмутся за его воспитание. И терпение, напряженная работа медленно заполнят расщелину между двумя врожденными формами его таланта, между фантазией, видением и анализом, логикой, они уже не ведут себя как противники, беспокойно врываясь вперед то в одном, то в другом фрагменте повествования; нет, теперь они, послушные воле художника, помогают друг другу и до сих пор могучее начало видения, фантазии теряет свою пьянящую юношескую силу, логика же художника с каждым днем приобретает все больший опыт.
Покой, внутреннюю уравновешенность испытывает Вассерман, и можно убедительно показать, что это отражается и в его стиле также. Но он сохранил обе особенности своего таланта – чувственность и интеллектуальность, красочно-смутное, лирическое бурление, сверкающие каскады переплетающихся фраз и, с другой стороны, кристаллизацию, склонность к эпиграмической лаконичности – и то, и другое характерно для стиля нынешнего Вассермана, но, однако, – в удивительной уравновешенности. Он освободился от орнаментовки, перешел от избыточности к необходимому и его эпическую дикцию можно теперь сравнить с ритмом волн спокойного моря, который ведет свое повествование с легким, приятным, едва ощутимым, звучащим в унисон баюканьем. Его стиль не назовешь искрящимся, он темного металлического цвета, в нем нет блестящего украшения слов, это шлифованная сталь, упругая и эластичная, не разбрасывающая искры, не брызжущая огнем, а закаленная в огне. Автор жертвует мелодией ради ритма, соблазнительным порывом – ради постоянного упорства, напоминающего равномерный, твердый шаг тренированных альпинистов, стремящихся взобраться на вершину горы и знающих, что прыжки и поспешность быстро лишат их силы. Но его стиль не сух, в темном металле стиля сияет внутренний свет, придающий некоторым стихотворениям Вассермана удивительную орфическую гармоничность[10]. И он – немец в самом высоком смысле, немец по воспитанию, музыкален – по Баху, литературен – по Клейсту.
Три следующие книги, написанные Якобом Вассерманом, – «Александр в Вавилоне», «Сестры», и «Каспар Гаузер» – с технической точки зрения это безупречные произведения, в них чувствуется возросшее чувство сдержанности. Лишь поняв трудности, связанные с особенностью своего таланта, – с его двойственностью, – которые возникали при создании романа на материале современности, Вассерман вновь вернулся к исторической тематике (или, чтобы попытаться сказать на его языке, он решил создать миф не на основе оптических реалий, а разрабатывая предания).
Исторический материал – нечто удивительное среднее между вымышленным и увиденным, потому что, хотя он и является реальностью, однако реальностью многозначной, своей для каждого индивидуума и, следовательно, неконтролируемой. Чтобы этой реальности стать зримой, чтобы проявиться, художник прежде чем воссоздать ее, должен ее увидеть. И здесь как раз счастливейшим образом в полной мере используется двойственность таланта Вассермана: его зрелый интеллект с помощью натренированного чувства стиля обнаруживает в путанице сохранившихся хроник искры жизни, присущая же ему фантазия раздует эти искры в пламя. Теперь Вассерман знает, как опасно слишком опрометчиво желать целого, и поэтому разделяет силы.

В книге «Александр», в этой оргии, как бы созданной отравленным гашишем разумом, он дает полную свободу дикой, утопающей в красках восточной фантазии. Во всей немецкой литературе нет, вероятно, книги, несущей столько опьянения, такого хмеля красок, нет книги так глубоко внутренне связанной с современными писателю художниками, которые своими яркими, кричащими красками вызывали едва ли не чувственное наслаждение. Нигде Восток не был описан с таким восторгом, как в этой книге, писалась она, вероятно, на основе полной тайн, исполненной тоски, ретроспективной памяти крови. Лишь секунду всемирной истории воспроизводит автор в романе. И в этой секунде через судьбу одного единственного человека показана грандиозность распада величайшей в истории человечества империи, самоуничтожение страсти – катаклизм, являющийся, вероятно, откликом на переживания автора, связанные с преодоленными им опасностями. Ибо артистическое чувство ответственности развилось в нем столь сильно, что искусство стало для него проблемой жизни, ему, в понимании Флобера, вся бесконечная жизнь представляется уже не самоцелью, а материей, которая претворяется в искусство.
Необыкновенная плодотворность такого осмысления жизни становится очевидной по следующим работам писателя. Не освобождать, как раньше, свой народ или женщин хочет Вассерман, а освободить самого себя, стать совершенно свободным художником. Он вытесняет себя из своих художественных произведений, что делает их законченными, совершенными, хотя кому-то такие произведения и не очень нравятся. Все более превращается он в анонима, в Б-га-созидателя, хотя и дает произведению себя чувствовать, однако никогда в нем не появляется. Все чаще одергивает он свой талант. В трех новеллах книги «Сестры» он с мастерством психолога описывает сложнейшие душевные переживания своих персонажей и угадывается – впервые в его книгах – ясный план, упорядочивающая, направляющая, взвешивающая рука, а не одни только пылкие чувства. Там, где раньше были бурные, таинственные разряды, движущая сила которых несла сюжет по широким песчаным просторам, теперь работает разумно действующая энергия.
Если прежде для новелл характерно было нечто флюктуирующее, какое-то красочное скольжение облаков или снов, то теперь их художественно построенные структуры послушны не только красоте, но и законам силы тяготения, они устойчивы. Особенно заметно это в детективной новелле, в которой случайное подозрение ведет к гибели многих судеб. В этой новелле поражает мастерство литературной полифонии. В новелле, словно в шахматной игре, ход следует за ходом и, казалось бы, такая верная, надежная жизнь очутилась в сетях рока, все происходит с неизбежностью стихийного, также связанного с целью, внутренне присущей судьбе. И здесь, в этих новеллах, писатель преодолел увлечение орнаментовкой, случайное, элементы украшений заменил упругими, крепкими связками, принудил стиль и материал соответствовать друг другу.
И в этих попытках описать судьбы в час их зрелости художнику достало мужества попытаться воссоздать образ человека с самого начала его развития, решить нерешаемую задачу – потому что органический процесс духовной кристаллизации подобен алхимии искусства.
Я имею в виду роман «Каспар Гаузер»[11] – но здесь рассматривать его буду лишь в связи с более ранними произведениями писателя. В этой книге Вассерман опять вернулся к своему прежнему идеалу – к непосредственному, прямодушному человеку, но при этом избежал опасности личного тем, что представил этого необыкновенного человека не как тип, а как нечто единичное, неповторимое. Он держал своего героя в стороне от действительности, даже от всего, имеющего отношение к людям, тем самым более сильно связав его с первобытными силами земли, наделил его пророческим даром предчувствовать грозу и другие явления природы, даже свою смерть, дал ему мистическую способность по разговору подслушивать сердце.

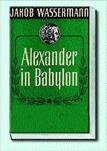
Однако одновременно, по Вассерману, в переживаниях Каспара все духовное восприятие мира сужено, а патетическая история безымянного найденыша, трагедией которого было отсутствие детства, сконденсирована в рассказ о детстве, об осознании смутных воспоминаний, связанных с развитием души.
По существу, это книга о таинственном моменте открытия человеком его «Я», противостоящего бесконечно многозначному «Ты» мира, который нам всем грезится, и вновь становится реальностью лишь в художнике (который в иные секунды словно впервые стоит перед космосом). И одновременно этот роман – история чистого человека, не сконструированного на основе совершенно неизвестных понятий, действительно абсолютно непосредственного, который просто и с интуитивной ясностью стоит перед восприятием вещей и поэтому необъясним, как некий символ лишь самим собой определяемого понятия безымянного, безродного человека в потоке различных представлений о нем, давно ускользнувших от нас. И смерть Каспара не подобна уходу из жизни всех прежних героев Вассермана, его смерть не только приговор, отменяющий его жизнеспособность, это рок, судьба – Каспар Гаузер задуман не для жизни, а всего лишь как секунда, секунда юноши – его тело, его жизнь всего лишь окаменевшая промежуточная форма ускользнувшего понятия.
И это произведение – по моим представлениям совершеннейшее из всего написанного Вассерманом – неправильно понимается, если оценивается только как повествование, как история одного человека. Это – символ нашего собственного мистического открытия мира, концентрация нашего обширного детского опыта в нечто целое, в одно единственное переживание, более смелая попытка исследования мгновения пробуждения сознания из тьмы, чем то, что писатель пытался нам до сих пор передать пламенем поэтического вымысла. И в самом формировании произведения чувствуется неповторимость, монументальность, воля поднять этот колеблющийся в легенде образ на уровень Длительного, Неопровержимого. Глубокая вера Вассермана в созданный им образ побеждает автора: впервые, думаю, писатель любит в своем произведении созданного им человека и, тем самым, впервые подтверждает себя как творческий художник, который до сих пор разрушал все свои образы, не завершив их формирование, не признавая тем самым их соответствие его внутреннему идеалу.
После этих трех книг, ожививших прошлое, Вассерман попытался с созревшими силами вновь вернуться к современной тематике, овладеть ею в своем романе «Маски Эрвина Рейнера», вызвавшем широкую дискуссию и множество враждебных откликов. Создавая героя, писателя Рейнера, Вассерман использовал в качестве прототипов нескольких членов литературного кружка «Литература», придав образу Рейнера едва ли не все черты творчески бездарной личности – обманщика, лгуна, человека, играющего с жизнью, вместо того чтобы жить, оговаривающего жизнь, вместо того чтобы понять ее, предпочитающего чем-то владеть и всегда лишь имеющего отраженный блеск, ничего не стоящее отражение.
И в противоположность этому образу, в некоей таинственной враждебности – прием, который Вассерман часто использует и который кажется ему не менее важным, чем противостояние друг другу поколений – автором дан простой человек, творческая личность (здесь впервые – в образе женщины), противоположность человеку никчемному. Виргиния[12] – имена собственные у Вассермана часто «говорящие», символичные – цельная натура, она не только физиологически девственна, но и духовно чиста, свободна от всевозможных влияний и своим простодушием, своей бесхитростностью способна сильнее, чем обаятельностью, противостоять всем ухищрениям ловкого обольстителя. И впервые в произведении Вассермана чистая сила непосредственного человека борется против видимости – против человека, не имеющего за своей маской души, являет собой символ – если угодно, – художнического чувства собственного достоинства, надежного мировоззрения художника. Он сам себя утверждает как творящая и поэтому победоносная личность.
В первых книгах Вассермана Агатон и Ансельм были смущены Гудштиккером, здесь же Рейнер – лишь одна из разновидностей людей типа Гудштиккера – сокрушен, разбит под напором непреодолимой силы цельного, внутренне чистого человека. Виргиния проявляет инициативу, добиваясь того, к чему Рената лишь стремилась, – целомудрия чувств, правдивости души, не управляемой более чувствами, состояния, когда женщина не позволяет взять себя, а лишь дарит себя и поэтому совершенно свободна – а все это уже очень близко предельному идеалу Вассермана, идеалу понятия непосредственности. Было бы соблазнительно показать, насколько сильно этот первый реалистический роман Вассермана превосходит его предыдущие произведения, как ограничение проблемы судьбой одного человека без патетических попыток Ренаты проявлять свою актуальную значительность потребовало своей внутренней архитектоники произведения, точного действия, за которым как бы случайно постоянно чувствуются протекающие события.

Вассерман учился систематичнее, чем любой другой, в своем арсенале эпического искусства он испытал все виды оружия, теоретически изучил секреты их действия – его исследования «История повествования», другие теоретические работы говорят о том, куда он направил часть своих творческих усилий. Для стимулирования интереса читателя он, не колеблясь, использует в своих произведениях самые различные, даже обычно пренебрегаемые элементы, художественно облагораживая их, подчас облекает он эпический материал в мелодраматические одежды и смело перенимает то, что неумелые руки его товарищей по цеху уже успели испортить.
Не следует забывать, что «Кларисса Мирабель», мастерски написанная им новелла, новелла-шедевр, своим источником имеет презренный «Питаваль»[13], что Каспар Гаузер был любимым персонажем многих бульварных романов, что история Эдвина Рейнера по существу является историей, популярной во всех литературах мира – это сюжет о Дон-Жуане. Однако Вассерман осознанно принял эти едва ли не народные элементы, чувствуя, что слишком снобистское презрение ко всему увлекательному, этому исходному элементу любого повествования, суровое исключение из немецкого романа всего своеобразного и необычного, поразило его странным малокровием, и вот немецкая литература больна им уже сотню лет.

Вассерман понял, что хотя психология и должна присутствовать в произведении невидимой движущей силой, но никогда ей не следует быть событийным сюжетом и что экономность в изложении столь же необходима, как и многообразие происходящего в произведении. Этим он решительно уходит от немецкой традиции романа, хотя и пишет более по-немецки, чем, пожалуй, все современные нам прозаики. Сейчас воля писателя выводит его из немецкой литературы в литературу всемирную.

До какой виртуозности выросли технические возможности Вассермана на основе накопленного им опыта и испытанных им неудач, свидетельствует его последняя книга – «Золотое зеркало», произведение по своей структуре новаторское. Это сборник рассказов в некоем литературном обрамлении, но обрамление это в заключение начинает самостоятельную жизнь. Красочно вливается оно в события рассказом о рассказе, упорядочивая, подсвечивая его. Книга эта похожа на мозаику, и все же она более чем мозаика, так как каждый из этих блистательных фрагментов эпоса характеризует своего рассказчика, который оказывается здесь между новеллой и автором, так что характеристика новеллы становится более полной, чем ее мог бы дать только текст. Это чрезвычайно сложный и высококвалифицированный художнический прием. В книгу включены очень небольшие анекдоты – «зародышевые клетки эпики», как очень удачно недавно назвал их критик Баб, – и наряду с ними объемные, отвечающие самому утонченному вкусу новеллы, как например, «Аврора» или «Чума в Винчгау»; все новеллы связаны друг с другом, образуя собой как бы шестереночный механизм часов, в котором маленькие колесики понуждают двигаться большие, серебряные штырьки обеспечивают равновесие, другие элементы механизма подгоняют или замедляют ход, а весь механизм поддерживает в постоянной соразмерности нужный рассказчику ритм. Впервые Вассерман как рассказчик имеет совершенно спокойное дыхание ритмично шагающего человека, впервые ему удалось полностью выключить себя из произведения, сохранить анонимность, остаться вне произведения. Историческое и реальное здесь помирились и, что особенно важно, обе его склонности – к логике и элементам пылкого фантазирования – также.

Произведения Вассермана характеризуются сейчас возрастающим покоем и уверенностью автора в себе. Он не погружается более с великолепным неистовством своей писательской молодости с головой в свои произведения, теперь он укрощает это неистовство. Если раньше травимый миром, он бежал в дебри искусства, спасаясь от насилия жизни, то теперь он уже сам стал охотником, искусство – его оружием, а жизнь – его дичью и, вскоре, добычей. Наконец творчество становится для него не борьбой, а игрой. Неприятно-судорожное, вулканическое, мучительное и, с художественной точки зрения, хаотическое – характерное для молодого писателя – все, что у многих отбивало охоту от чтения его книг, постепенно, словно дым, покидает его произведения, они становятся просветленными, прозрачными и, вместо того, чтобы бесполезно разряжаться в молниях, они теперь гармонически собираются в источник света. Темнота и обременяющая смутность медленно поднимаются и уходят от книг Вассермана, конвульсии юности превращаются в устойчивую силу зрелого человека. И очень может быть, что вскоре на его книгах будет покоиться то золотое свечение ясности, которое часто играет на поверхности успокоившегося после сильного шторма моря.
Публикация, перевод и примечания
Льва Миримова
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru
[1] «Вертер» – «Страдания молодого Вертера», роман в письмах. Написан Гёте в 1774 году.
[2] «Вильгельм Мейстер» – многотомный роман Гёте, который он писал более 30 лет. «Зеленый Генрих» – роман Келлера был издан в 1854-1855 годах.
[3] Протей – персонаж греческой легенды, морской герой, прорицатель. Обладал даром менять свой облик.
[4] fiction (англ.) – слово это имеет два значения: 1) вымысел, выдумка, фикция; 2) беллетристика, художественное произведение.
[5] ...Благодаря романтичекому происхожде-нию... – Дед Г. Манна со стороны матери – Брунс – немец, бабушка – урожденная де Сильва, бразильянка.
[6] Рунические знаки – от германского «тайна». Древнейшие германские письмена. Рунические знаки вырезали на дереве, выбивали на металле, высекали на камне. Старший (древнейший) рунический алфавит относится к I-III векам нашей эры; постепенно, начиная с IX века, он заменяется младшим руническим алфавитом.
[7] Саббатай Цеви – Цви, Саббатай (Шабтай) (1626-1676) – еврей из Смирны (Измир). В 1648 году провозгласил себя Мессией, имел много последователей. В 1666 году принял ислам. Часть его последователей также перешла в ислам, считая себя подлинными носителями иудаизма.
[8] «Прафауст» – так называется перва
я (рукописная) редакция «Фауста» Гёте (1773-1775). Работу над «Фаустом» Гёте завершил в 1831 году.
[9] ... продолжающегося бороться с ангелом до тех пор, пока тот его не благословит. – Автор имеет в виду борьбу Яакова с ангелом (Брейшис. 32; 24-29).
[10] ... орфическую гармоничность. – Орфей – персонаж древнегреческой мифологии, своими песнями укрощал диких зверей, приводил в движение деревья и скалы.
[11] Каспар Хаузер – историческая личность. Загадочный подкидыш родился вероятно в 1812 году, умер в 1833 году. Появился в Нюрнберге в 1828 году. Сначала в разговоре с людьми не мог связать нескольких слов. Получил какое-то образование. Смерть от колотой раны (убийца не был найден) и другие обстоятельства его биографии дали многим писателям и поэтам повод к обширным мифологическим построениям.
[12] Виргиния – девственница (лат.).
[13] «Питаваль» – Питаваль, Франсуа де (1673-1743) – французский адвокат по уголовным делам, автор книги «Знаменитые и интересные процессы». Фамилия его стала нарицательной для подобной литературы.