[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ СЕНТЯБРЬ 2002 ТИШРЕЙ 5763 — 9 (125)
Беседы с художником Александром Тышлером
Марианна Таврог

В 1966 году в Москве, в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина была организована выставка работ Александра Тышлера.
Персональная выставка работ живого советского художника в таком музее была редкостью. До этого картины Тышлера выставлялись в маленьких, далеких от центра залах, да и то очень редко. На выставку я пришла с моей подругой – сценаристом Неллей Лосевой. До этого мы уже сделали фильмы о художниках В. Фаворском, Е. Кибрике, Д. Шмаринове, О. Верейском, о русском эстампе и о рисунках старых мастеров. Картины Тышлера нам не приходилось видеть: он больше был известен как театральный художник.
Увиденное нас поразило: неожиданность композиций, необыкновенная живописность, музыкальность и доброта полотен художника произвели на нас такое сильное впечатление, что мы решили сделать о нем фильм. Народу на выставке было много, и мы стали искать автора.
Наше внимание привлекла группа зрителей. Среди них выделялась высокая и стройная молодая красивая дама с лорнетом. Рядом с ней был совсем немолодой мужчина небольшого роста, худенький, седой, коротко подстриженный, в сером костюме и шейном платке вместо галстука. Это и был художник Александр Тышлер. У него оказались удивительные глаза – черные, большие, они лучились умом и любопытством, добротой и юмором, доверчивостью и непосредственностью. Своим мягким голосом он с удивлением спросил:
– Меня снимать в кино? – и рассмеялся. – Вряд ли вам это удастся, хотя я не против. А ты, Флора? – обратился он к своей спутнице.
Потом мы узнали, что это была его жена, искусствовед Флора Сыркина. А удививший нас лорнет в ее руке был необходим, чтобы видеть окружающих: в то время она была тяжело больна и теряла зрение, но помогала художнику развешивать картины.

Шекспировские куклы. Из серии «Шекспировские куклы».1973 год
Тышлер был счастлив выставке, радовался тому, как люди смотрят его картины. Он охотно отвечал на вопросы.
Мы условились с его женой о встрече и о возможности съемок. Начали думать, как осуществить создание фильма «Художник Александр Тышлер». Нельзя допустить, чтобы картины, которые навсегда могли уйти из страны, не были запечатлены на пленке. И вот, получив на киностудии «Центрнаучфильм» разрешение на съемку, а также заручившись поддержкой тогдашнего секретаря Союза художников Д. А. Шмаринова, мы договорились о дне съемок с директором музея И.А. Антоновой.
Но в те годы официальное отношение к художнику Тышлеру было резко отрицательным. Ведь он не писал портреты вождей, прославленных председателей колхозов, начальников разных мастей, а рисовал без заказов, для себя, портреты просто интересных или приглянувшихся ему людей. В его зарисовках есть замечательные портреты Льва Толстого, Анны Ахматовой, Соломона Михоэлса, артистов Еврейского театра, где он работал главным художником. Каждое утро Тышлер уходил в мастерскую и писал свои картины, не докучая начальству.
Но когда мы приехали ровно в назначенный день с киноаппаратурой в музей, то узнали, что киносъемка... запрещена. Можно представить наше отчаяние. Но Ирина Александровна Антонова, понимая художественное значение творчества Александра Тышлера для нашей культуры, вопреки своему начальству дала нам возможность снять выставку. В то время это был поистине Поступок!

В комнате на Мясницкой, 1920-е. Москва.
С этого дня и началась наша «Одиссея» по волнам бюрократического моря. Студия приняла сценарий и включила фильм «Художник Александр Тышлер» в план съемок. Однако в Госкино вычеркнули эту тему из плана. Так продолжалось каждый год: студия включала фильм в план, а Госкино – вычеркивало. А я ходила по начальству – в Госкино, Академию художеств, Союз художников, доказывая и объясняя, кто такой Тышлер и как необходим такой фильм.
Наконец, в 1972 году удалось под таким «киношным» определением, как «уходящий объект», провести съемки у Александра Григорьевича в его мастерской. Мы приехали с аппаратурой рано утром на Масловку, в дом художников. Там были мастерские, в которых работали скульпторы, графики, живописцы. В длинном полутемном коридоре возвышались скульптурные группы, подрамники и ненужная утварь. Среди многих дверей, как в общежитии, мы нашли дверь в мастерскую Тышлера.
Мастерская поразила нас: это была небольшая комната, и ее значительная часть была заполнена повернутыми к стене холстами. На оставшемся пространстве стоял мольберт, и за ним – работающий художник. Мы кое-как разместили осветительную аппаратуру, а кинокамеру оператору Эдгару Уэцкому пришлось взять в руки. В это время Александр Григорьевич работал над одной из картин серии «Миру мир». Сам художник называл эту серию «Благовесть».
Во время съемок Александр Григорьевич был так непосредствен, что, увлекшись работой, ничего не замечал вокруг, а мы, совсем не как в кино, старались не мешать. Оператор тихо ходил с кинокамерой вокруг художника или садился на корточки, снимая работающего мастера через просвет в мольберте. Когда, закончив съемку, мы погасили свет, Тышлер сказал: «Что-то стало темнеть» – видимо, совсем забыв о нас.
Александр Григорьевич отошел от мольберта и долго смотрел на свою работу. Потом снова подошел и поставил дату внизу, в правом углу картины, и подпись – «Тышлер». Художник вытер кисти, завернул тюбики с красками и обтер руки. Стал снимать халатик, весь измазанный краской.
И тут я решилась спросить:
– Ваша фамилия от слова «стол»?
– Да, отец мой был столяр, дед и прадед тоже, отсюда и наша фамилия, «Тышлер» значит столяр, – ответил Александр Григорьевич. – А мать моя была кавказская еврейка, в девичестве – Джинджихашвили. Я родился в Мелитополе в 1898 году. Семья была большая: восемь душ детей – три дочери, пять сыновей, я последний. Жизнь братьев была не длинная. Один брат – наборщик, большевик – был повешен в 1919 году генералом Слащевым. Другого убили махновцы. Третий был расстрелян фашистами в 1942 году.
У нас в Мелитополе был большой двор. Он был населен ремесленниками – столярами и плотниками, бондарями, кузнецами, жестянщиками. Обитали во дворе и маляры. Они раскрашивали брички, расписывали железные кровати. Уходя в пивную, они доверяли мне свою нелегкую работу, которая для меня была наслаждением. Я расписывал повозки, изображал украинские пейзажи с белыми хатами и луной на черных спинках кроватей. Я вырос в окружении русских, еврейских, украинских, турецких ремесленников – дружно живущих рабочих людей. Двор сыграл в моей жизни большую роль, – закончил художник свой рассказ...

Женщина и аэроплан. 1926 год.
В другой раз мы долго разговаривали с Александром Григорьевичем в его мастерской после работы: очень хотелось записать голос художника, его непереводимую на бумагу интонацию. Он рассказывал о себе, о детстве в Мелитополе, о работе, и его рассказ был наполнен деталями, ароматом времени, романтикой 20-х годов. У нас перед глазами возникали люди, неповторимый быт южного местечка, старая, незнакомая нам Москва. Наш звукооператор А. Романов, уйдя с аппаратурой в коридор, записал нашу беседу. Потом я рассказала Тышлеру об этом, дала прочесть запись. Было что-то детское в том интересе, с которым Александр Григорьевич впервые слушал самого себя. Он ничего не редактировал и ничего не выбросил из этой беседы...
Художник дал нам согласие на продолжение съемок. Ранней весной на все лето и осень Тышлер уезжал работать в Верею. В один из летних дней мы отправились к нему.
Верея – один из древнейших городов Подмосковъя. Он возник еще в ХIV веке на живописных крутых холмах реки Протвы. Многое в этом уездном городке сохранилось, как было встарь: центральная площадь с торговыми рядами, где и сейчас приютились лавочки с домашней снедью, булыжные мостовые, базар с телегами, улочки то в гору, то с горы, белые домики с цветами в окнах. Уютно и неторопливо, тихо, крики петухов и пенье птиц не мешают работе. Тышлер после войны построил по своим эскизам простой деревянный дом, похожий на скворечник: небольшой, но высокий, в два этажа, с резными наличниками, с маленьким заборчиком вокруг дома, с зеленой травой без всяких грядок.
Мы приехали в Верею. Художник спустился к нам с деревянного крылечка, был добр и гостеприимен. Он пригласил нас в дом.
Прямо, без сеней, была большая комната с уютной русской печью. За печью стояли тахта и стол. Узенькая хлипкая лестница вела наверх, в маленькую комнатку, – там была мастерская с балкончиком. Ветки вписывались в окна. Тышлер умел делать все: сам топил печь, приносил воду, мастерил скамейки, писал этюды или резал из дерева скульптуру, принося из леса подходящий материал.

А. Тышлер в Верее во время работы над скульптурой и режиссер М. Таврог. 1974
Показал нам Александр Григорьевич и окрестности. Его дом стоял на краю городка, неподалеку от поля и извилистой речки Раточки с удивительно прозрачной водой. Тышлер в это время увлекался поисками «куриных богов» – камней с дырками. Нашел и для нас несколько таких камешков: «Говорят, они приносят счастье». Позже я увидела у него дома целую коллекцию этих «куриных богов», нанизанных на веревочку и висящую над кроватью.
Эту быструю речку Раточку можно было перейти вброд и выйти на опушку леса. В лесу прогулку Тышлер совмещал с поисками подходящих деревьев для своих скульптур. Мы помогли ему унести целую связку непонятных нам коряг и вернулись домой. Работал он возле дома. В тени стоял верстак, сделанный им самим.
Во время съемки Тышлер резал женскую фигуру из серии «Деревянные дриады». Это была тяжелая физическая работа: сначала предстояло обтесать ствол и придать ему нужную форму. Наблюдая за его работой, мы еще не представляли, что получится... Но постепенно из этого куска дерева начала оживать женская фигура со скворечником на голове; из дверцы скворечника выглядывало прекрасное лицо. Мастер тщательно, выбирая инструменты, вытачивал нос, рот, подбородок – и лицо стало одухотворенным.
Работая над формой глаз, он сказал:
– В античных скульптурах нет зрачков. И я тоже не люблю писать зрачки, – без них взгляд беспределен.
И действительно, женщина смотрела на нас. Так же тщательно он вырезал кисти рук с длинными красивыми пальцами. Руки художника прикасались к дереву с нежностью и точностью, в каком-то музыкальном ритме, очищая скульптуру от всего лишнего. Мы завороженно смотрели, как во время съемки рождалась новая дриада. Поздно вечером мы уехали из Вереи с ощущением гармонии и радости.
Но наша дальнейшая работа была приостановлена: фильм опять был выкинут из плана. Тем не менее материал мы сохранили и, хотя я занялась другой лентой, я уже не могла без встреч и бесед с Александром Григорьевичем. Очень малую часть из них я записала, но как-то обидно владеть этим одной. Вот отрывки из этих записей...
***

Портрет жены художника. (С птицами). 1926 год.
Однажды Александр Григорьевич рассказал о том, с чего начинал:
– Писать надо так, чтобы не думать о завтрашнем дне. Мне приходилось в Мелитополе и на суп из воблы зарабатывать. Я попал в малярную мастерскую, где не было холста, а только фанера, и на фанере заготовлено три овала для портретов: Тараса Шевченко, Троцкого и Ленина. Вот я их и писал, выручая мастеров: им надо было 3-4 дня на фанеру, а я за один день успевал написать. Спрос был большой, все деревни покупали. А я потом масляными красками на фанере написал Толстого, Достоевского, Тургенева и Шевченко – много цвета не клал, двумя красками под сепию; это мне заказали для школ.
Тышлер охотно отвечал на вопросы, был искренен и простодушен. Наш диалог начался с вопроса Александру Григорьевичу:
– Это правда, что вы были во время гражданской войны в Красной Армии? Глядя на вас, как-то трудно себе представить вас в военной форме с ружьем.
– Да, это правда, – ответил он. – Когда большевики вошли в Киев, я сам пошел добровольцем. Я очень жалею, что не сфотографировался тогда, я был очень смешно одет. На мне все было не по росту: шинель не по росту, сапоги были большие.
– А какие это были войска, что это было?
– Я находился в отряде особого назначения при особом отделе 12-й армии. Это было время, когда наши части наступали.
– А что вы там делали?
– Я был художник, но тем не менее мне выдали винтовку (он засмеялся). Правда, мне не пришлось ею воспользоваться. Работал страшно много, делал плакаты, оформлял агитпоезда, спектакли. А дома думали, что мои косточки давно развеяны по земле. Когда закончилась война в двадцатом году, я был демобилизован и вернулся в Мелитополь. Там с Максом Поляновским делал Окна РОСТа. Потом я понял, что надо уезжать, и приехал в Москву. Бедствовал я страшно! Один скульптор, знакомый по Киеву, уехал за границу и оставил мне комнату. Это было замечательно – свой угол! Я хорошо знаю: чтобы живописью заниматься, художник должен писать и писать, и не думать о другом.
– Что, и не думать
о картине?
– О картине само думается, это в тебе: разве ты думаешь о том, что ты дышишь?
– Сейчас часто говорят: современный художник или не современный. А каким вы себя ощущаете?
– Мне кажется, что у художника не должна прерываться связь времен. Если ты хочешь сделать что-то новое, то за этим новым всегда остается связь с прошлым. Не прямая, лобовая, а идущая изнутри, начиная с древней Греции, русской иконы – все лучшее, что в каждой эпохе имеется, входит в тебя. Вот когда художник все это перемелет в себе, вот тогда он будет современным.
У меня часто спрашивают: какого художника вы любите? Наверное, это не совсем правильный вопрос. Лучше спросите, что я люблю в данной эпохе? Я люблю Джотто, а Джотто – это целая эпоха. Икону русскую люблю очень, а потом все ближе – люблю импрессионистов, люблю современных французских художников, Пикассо! А вот у Пикассо очень чувствуется связь времен – внимательно всмотритесь в его вещи. У нас грубо говорят: «Пикассо берет то-то»... Ничего он не берет, как-то эмоционально оно само к нему приходит, как к хорошему хозяину!
* * *
...Мы сидим в его маленькой двухкомнатной квартире на старинном уютном диване. Я рассматриваю рисунки. Тышлер наблюдает. Много рисунков сделано фломастером. Вот портрет старика, замечательно! Очень похож на Рембрандта, – отмечаю я, – а характер рисунка совсем другой?
Тышлер объясняет:
– Работать фломастером – все равно, что играть на рояле, удар сильней или легче...
– Удивительный рисунок. Как вам это удается, ведь нет определенности, как будто хаос линий, а есть образ, характер?
– Сам не знаю. Если б я знал, как, что и почему, то открыл бы лавочку, – Тышлер смеется. – Или трактаты писал.
– Вы бы не открыли лавочку и не стали писать трактаты!
– Я бы не стал, я бы писал картины.
– Но все-таки, Александр Григорьевич, как вам удается в рисунке создать настроение?
– Просто одна линия – ничего, а несколько в сочетании уже дают образ. Можно много линий сделать: но какая из них главная? А всмотришься, и находишь, – и видишь, что главная линия есть... Я много учился у Рембрандта, и в этом рисунке очень много значит свет: смотрите – лоб, кончик носа, глаза – освещены, а все остальное в тени. Ой, мне кажется, что легче сделать, чем потом объяснять, как и почему. На вопросы я часто отвечаю: лучше еще раз посмотрите и еще раз. И тогда вы сами поймете и найдете ответ. Глаза художника, как фотоаппарат, они запечатлевают и оставляют у себя, а потом когда-то это проявляется в рисунке или картине...
На многие мои вопросы ему, наверное, и раньше приходилось отвечать, но это его не раздражало – мастер был спокоен и доброжелателен. И я решилась:
– Александр Григорьевич, вас часто спрашивают о запечатленных на холстах построениях на голове?
– Тут много всяких причин. Во-первых, воспоминания детства. Те впечатления, которые я получил в детстве, очень сильны, а сейчас у меня есть возможность эти воспоминания осмыслить. Я вырос на юге, у нас всё на головах носили, всё, буквально всё – бублики, пирожки, лимонад, так что эти воспоминания имеют большое значение. А потом, мне это нравится чисто архитектурно: человек, и у него на голове еще что-то есть. Не обязательно это должно быть у него в руке или рядом – понимаете, я тут абсолютно свободен.
– Я думала, это имеет какое-то философское обобщение?
– Литературщины здесь нет никакой, это архитектурная композиция, чисто образная вещь. Мне хочется сосредоточить все в человеке и на человеке, вокруг него, и тут мне все равно, с чего начать. Если это балаганчик, я могу начать писать с головы, на голове, спуститься на плечи, перейти к рукам и так далее. В результате человек и вещь обретают новый неожиданный единый архитектурный образ. У меня вещи изображены совершенно реально, а соединение их с человеком – фантастично. Я люблю рисовать и писать людей, особенно женщин. Я изображаю их в необычных связях и ситуациях, вне законов перспективы. Казалось бы, человек меньше, чем дом, а в моих работах женщина может нести на голове дом или целый город.
– В этих построениях, мне кажется, видна сущность того образа, который вы создаете.
– Ну да, это понятно: я стараюсь, а уж как кто поймет – это уже их дело.
...Собирая рисунки в папку, Александр Григорьевич предлагает выпить чаю. Он очень любит угощать, накрывать на стол, подбирая посуду по цвету и рисунку. Круглый стол превращается в живописную клумбу.
Разговоры с Тышлером никогда не были суетными. Его интересовали все виды искусства: музыка, литература, поэзия. Он слушал радио, смотрел телевизор, искренне возмущался безвкусицей, но не агрессивно, а как-то с большой обидой на то, что вот такое происходит.
***
В один из дней, когда наступили сумерки и Александр Григорьевич уже закончил писать и вытирал кисти, я увидела, что он очень устал. Он как будто это почувствовал и сказал:
– Работа художника очень сложна, очень трудна, требует огромного сосредоточения, очень большой какой-то, я бы сказал, изоляции. Вот то, что у тебя сейчас находится внутри, вот эта вещь, она в твоем состоянии, она у тебя – и ты ее переводишь на холст. Это требует огромного напряжения и требует тишины, – какой-то музыкальной тишины. Не глухости, нет, а какой-то... музыки тишины. Изоляции какой-то. Мне не мешает шум трамвая, все это я как бы не замечаю. Но когда я чувствую, что за моей спиной стоит человек, я начинаю нервничать, я раздваиваюсь, теряю нить.
– Поэтому вы так не хотели, – напомнила я ему, – чтобы мы снимали вас за работой в мастерской?
– Да, я должен освоиться, как-то привыкнуть к этому человеку. Однажды, когда я писал этюд в Верее, проходит мимо мужчина, вида рабочего, остановился и смотрит. Я говорю: «Вы мне мешаете», но он – не понимает, что значит «мешает». Раз он не шумит, не разговаривает, спокойно стоит, значит – не мешает. Что сделаешь?! Я продолжал писать, несколько раз стирал, замазывал, а человек все стоял, пока я не закончил этюд. Я у него спросил: «Вы наверное на работу шли, потеряли столько времени». А он ответил: «Знаете, мне так было интересно смотреть. Только зачем вы стирали, уже и так красиво было»...
Признаться, у меня тоже было
такое ощущение, когда Александр Григорьевич рисовал, а мы снимали. Нарисует и выбросит лист, и еще один, и еще, и только третий оставит, а нам казалось, что все листы были хороши. Чтобы понять, чем он руководствуется в своем выборе вариантов, я спросила:
– Наверное, только сам художник может знать, когда вещь закончена?
– Художник живет, дышит, общается с людьми, значит – у него идет накопление. Вот наш замечательный художник Александр Иванов, который писал всю жизнь эту большую картину – «Явление Христа народу». Я думаю, он так и не успел сделать то, что ему очень хотелось сделать даже в одной картине.
Меня заставил задуматься и его ответ на другой вопрос:
– Александр Григорьевич, я слышала, у вас спросили, работаете ли вы с натуры?
– Я работаю с помощью натуры...
***
Один из наших разговоров начался с того, что я спросила:
– Вы, Александр Григорьевич, много работали в театре?
Тышлер ответил:
– Я очень люблю театр. Я работал в театре, в разных театрах. И я работал со многими режиссерами: меня ждали иногда год, пока я освобожусь.
– Вы и с Мейерхольдом работали?
– Да, и с Мейерхольдом. Мне с ним было очень интересно. Он показывал фотографии своих спектаклей и говорил, что завидует мне, художнику. Ведь у меня остаются эскизы декораций, костюмов, зарисовки образов, а спектакль – проходит, и от него ничего, кроме воспоминаний, не остается. Мейерхольд не умел рисовать, он мне рассказывал о своем видении спектакля, рисуя карандашом какие-то каракули, похожие на рисунки детей в раннем возрасте. Он очень любил музыку и придавал ей огромное значение в театре: давал мне слушать разную музыку, ставя пластинки, и очень радовался, что я узнаю – что это за музыка, чья. Но поставить спектакль нам так и не удалось. Мейерхольд был арестован. Для меня это большая потеря...
Тышлер замолчал. Мы долго сидели молча, наконец, я вызвала его воспоминания о работе с другим великим режиссером:
– Ведь вы, Александр Григорьевич, были главным художником такого известного театра, как ГОСЕТ, прославились постановкой трагедии «Король Лир» Шекспира, даже Сталинскую премию получили за декорации к спектаклю «Фрейлехс»?
– Да, мы радовались тогда успеху театра, не ведая, что это начало конца, – сказал Тышлер. – Самая творческая жизнь, начиная с 30-х годов, была связана с тем театром, особенно с Михоэлсом. Он был ярок, экспрессивен, имел много друзей, его любили. Я часто рисовал его в гриме и без грима, по памяти. Он не любил позировать, ему было некогда. Работать с Михоэлсом над спектаклем для меня было наслаждение. Он работал много, упорно и настойчиво. Михоэлс любил свое искусство, театр, всегда был доступен несмотря на занятость. Я тосковал по нему, если долго его не видел. Вспоминая Михоэлса, я вижу рядом с ним талантливейшего актера Зускина. Они были неотделимы друг от друга с юности. Им в жизни пришлось много поплакать и посмеяться. А впоследствии они заставляли зрителей вместе с ними плакать и смеяться: какой же король Лир – Михоэлс мог быть без шута – Зускина. И судьба их трагически неразделима...
Тышлер замолчал. Наверное, думал, рассказывать ли мне об этом дальше. И продолжил после паузы:
– Знаете, в январе 1948 года Михоэлс спросил у меня: куда ему лучше поехать смотреть спектакль как члену комитета по Государственным премиям, в Ленинград или в Минск? Его сопровождал в эту поездку театральный критик Голубев. Я посоветовал ему ехать в Ленинград. Но, наверное, Голубев уговорил его ехать в Минск. А 15 января мы встречали Михоэлса, уже в гробу, из Минска. Больше вспоминать не хочется.
Мы долго сидели молча. Потом я спросила:
– А почему вы теперь для театра не работаете?
Тышлер задумался и не сразу ответил.
– ГОСЕТа уже нет, нет Михоэлса, Зускина – работать с ними для меня было наслаждение. Нет моих друзей, с кем была связана не работа, а жизнь в театре, – все это ушло. Театр забирал у меня все, я выматывался. И когда я почувствовал, что опустошаюсь, что надо уходить, я ушел из театра. И меня спасла и вернула к жизни природа. Она наполнила меня и захватила. Я стал ходить с этюдником и зонтом, писал этюды, вернулся в жизнь.
* * *
Следующий разговор с Тышлером был по телефону 28 января 1974 года. Утро, серая погода, не то снег, не то дождь, и я позвонила Александру Григорьевичу, начав с просьбы – не даст ли номера телефона Московского отделения Союза художников?
– Нет, телефона МОСХа не знаю, я туда никогда не звоню, – ответил он. – Это Флора знает, а мне не надо, я себе работаю. Вот сейчас темная зима стоит, солнышка не видно, трудно писать: всего пару часов в день набирается светлых, а вечером я не пишу, устаю за день. Мое дело такое – физически устаешь, а душа парит, за нею часто кисти не поспевают...
– Писатели говорят, что когда работают, то нередко сами не знают, куда их поведет герой.
– Да, это правильно и когда работаешь живописью. Не раскрашиваешь, а пишешь, и когда твой замысел воплощается в цвете, то тебя уже цвет ведет. И это – как музыка: чувствуешь, что здесь не барабан звучит, а флейта, и идешь не за инструментом, а за музыкой. И вот еще: когда задумывается композиция в цвете, то многие художники переносят в воображении свой замысел как бы на полотно. А у меня так никогда не получается! Когда начинаешь писать, то тебя уже не твой замысел, а сам цвет ведет, цветомузыка – это внутри тебя. Тут еще состояние этой вещи, образ ее как-то диктует мне. Но в работе цвет может сильно изменяться или совсем исчезнуть.
* * *
Вспоминаю мастерскую Тышлера. Она находилась все там же, в доме художников на Масловке, совсем недалеко от дома, где он жил. По сравнению с мастерскими других художников его мастерская была совсем маленькая. Одно большое окно, диванчик, небольшой стол, на котором стоит термос с горячим чаем, кружка и блокноты для записей с множеством рисунков. И все годы с первой нашей встречи вся комната по-прежнему была заставлена повернутыми к стене написанными холстами – они так и теснились рядами плотно друг к другу и будто ждали своего часа. А Тышлер чаще всего стоял в небольшом пространстве, не заполненном картинами, за мольбертом и писал новую картину.
Я долго смотрела, как он работает. Его энергия и сила передавались руке, кисти – и казалось, что холст, рука и кисть едины. Работа завораживала, я боялась нарушить это единство. Когда он положил кисть и отошел от мольберта, я спросила:
– Александр Григорьевич! Ведь это у вас не первая работа на эту тему?
– Не первая. Я работаю сериями, циклами, то есть не останавливаюсь на этой теме однажды. Я считаю, что один раз сделать – это недостаточно: когда я один раз делаю, вещь подсказывает мне возможность сделать еще раз, еще повторить, и сделать лучше, интересней. Иногда повторяешься пять-шесть раз, это тема подсказывает. Взять, например, «Цыган»: их я писал несколько раз и таким образом против воли почувствовал шире и глубже мир цыган, их характеры. И в то же время каждая работа серии может жить самостоятельно. Так же и тема «Благовесть»: таких несколько картин, – и эта благую весть несет, что-то хорошее. Я назвал эту тему «Благовесть», но начальству не понравилось, и они назвали ее «Миру мир», ну пусть будет так... Вообще, всем, что я делаю, мне хочется доставить людям радость, ну просто, чтобы человек смотрел. И пускай он сразу не поймет, но какую-то радость уже ощутит.
***
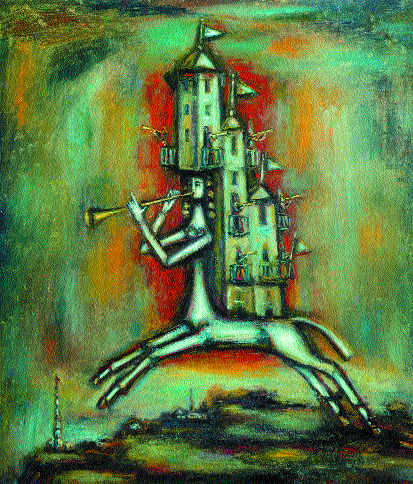
Легенда о девушке-кентавре. (Путешествие) №1. 1970 год.
Художник Тышлер жил, как-то не вписываясь в свое время, жил и работал сам по себе. Однако он всем интересовался, много читал, слушал музыку – и как-то однажды удивил меня, рассказав, что ему очень нравится американская современная музыка. Услышав мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда», он не мог оторваться от приемника.
– Это очень сильная музыка, очень образная, в ней неразделимы голос и инструменты, там все едино, – восторженно говорил он...
Тышлер остро воспринимал беды и несчастья других людей. В его маленькой квартире на Масловке было уютно и красиво. Он любил, когда приходили к нему гости, был добр и хлебосолен, любил красивые вещи, но чтобы они не стояли без дела, как в музее, а были частью быта. Много лет собирал старинные вещи, посуду, каждому подбирал красивую чашку к чаю. На круглом столе красного дерева всегда рядом с ним был маленький приемник, он не пропускал последние известия. Живо участвовал в беседах, обладал мягким юмором, но это все было вечерами, когда не было солнца и он не мог писать. А жил он работой.
***
...Коробки с отснятой пленкой нами тщательно хранились 20 лет. Мы дождались и начала перестройки, и большой ретроспективной выставки художника. Но к тому времени Александра Григорьевича уже не было в живых. Не было в живых и Нелли Лосевой – автора сценария. В нашей стране, увы, – слава и признание чаще всего приходят после смерти. Да и Александр Григорьевич со своей мягкой иронией все время нас успокаивал:
– Ничего, вот когда я умру, тогда может быть удастся сделать фильм.
И он, оказался прав.
Объединение «Видеофильм» в 1988 году включило в свой план фильм о художнике Александре Тышлере. Сценаристом была Майя Туровская: она много лет знала мастера, любила его живопись. В тот короткий видеофильм мы не смогли вместить многое, о чем нам рассказывал сам Александр Григорьевич, и показать другие прекрасные его работы. Да и расставаться с мечтой о большом фильме нам не хотелось.
Через два года нам повезло: нашелся коллекционер, который был увлечен картинами Тышлера и захотел иметь о нем фильм, снятый на пленку. Он и стал, как теперь говорят, спонсором нашей работы. Майя Туровская написала новый сценарий, используя записи бесед с художником, а мы досняли много материала в его мастерской. Поехали с киносъемками и в Мелитополь, где прошло детство художника, так что его воспоминания ожили на экране. Нам хотелось показать судьбу большого мастера в контексте времени и эпохи...
Однажды, когда он был болен, мы сидели вечером у него за столом, разговаривали, и он сказал:
– Я заранее знаю, что буду делать, у меня вещи прямо в очереди стоят, они скапливаются, а времени нету, чтобы все сделать. Так и подумаешь – умрешь и унесешь все это с собой, и не успеешь.
...Он умер 23 июня 1980 года. Наш фильм мы назвали «Художник и время. Александр Тышлер». Фильма о себе мастер так и не дождался, но люди, придя в кинозал или сидя у телевизора, смогли увидеть на экране его живым, работающим. И хотя каждый художник берет в руки кисть и палитру с красками – каждый работает по-своему. Но особая неповторимость работ Александра Тышлера, его талант и сосредоточенность, единство его руки с кистью и холстом, внутренняя напряженность и одухотворенность действительно завораживают. И не хочется расставаться с великим мастером.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru