Дети, в школу собирайтесь!
Израиль Петров
Все началось с авторучки. Что такая существует, Додик узнал перед диктантом. Ему рассказал о ней сосед по парте.
Она необыкновенная – авторучка. Еще говорят «самописка», потому что сама пишет. Набирают чернила – не школьные, не фиолетовые, а синие, как море, и ни о чем не беспокоятся: что бы ни случилось, даже страшное слово «галоши», ручка с тобой – выручит. А если Додик не верит, то пусть объяснит, отчего авторучкой запрещают писать в школе; не думает же он, будто портится почерк, – это нарочно сочинили!
И Додик поверил в авторучку. Спросил у отца: правда ли, что бывают автоматические ручки, ручки-автоматы? И отец подтвердил: правда, бывают. Только это пустой разговор. А вот сейчас мы займемся русским языком перед завтрашним диктантом, это действительно важно.
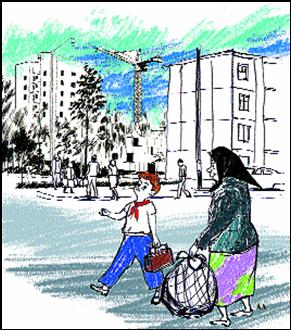 Папа повторил с Додиком правила,
продиктовал длинный текст и тут же проверил. Он исправлял ошибки черным
блестящим предметом с золотым ободком – конечно же, авторучкой! Иначе, как папа
смог так легко и просто найти пять ошибок, а в слове «инженер», ни минуты не
сомневаясь, переменить «и» на «е».
Папа повторил с Додиком правила,
продиктовал длинный текст и тут же проверил. Он исправлял ошибки черным
блестящим предметом с золотым ободком – конечно же, авторучкой! Иначе, как папа
смог так легко и просто найти пять ошибок, а в слове «инженер», ни минуты не
сомневаясь, переменить «и» на «е».
И Додик обрадовался. Значит, у папы есть авторучка! А не даст ли ему, Додику? Совсем на немножко... на три минутки...
Папа регулярно посещал родительские собрания и помнил предостережения педагогов относительно авторучки. Поднялся из-за стола и сказал: хватит, наболтались. Ложись-ка спать, дружок.
Все утро Додик бегал по двору, надеясь, что мама забудет о нем и он опоздает на диктант. Но мама спохватилась в последнюю минуту, и Додик ехал в трамвае. Он ехал и думал о папиной авторучке, которой тот расправлялся с ошибками, – в животе пустота, губы перекашивает...
Рядом с Додиком сидела старуха. Ватник. Платок. Цветастое линялое платье. Старуха везла мешок и маленький сундучишко. В руках сжимала бумагу и поминутно оглядывалась – ждала, чтобы кто-нибудь заговорил... Но никто не заговаривал, и старуха обратилась к Додику:
– Колокольниково поле – где сходить?
Додику было не до нее. Ответил коротко:
– Я сойду, а потом вы. – И забыл о старухе.
А она окликнула его на остановке. Он удивился: странно, зачем вышла? Старуха тоже недоумевала. Что не так? Сошел он, а потом она. Все верно... И сунула голубой клочок с адресом.
Додик долго плутал по закорюкам и, кроме «поселок железнодорожников», ничего не прочел. «Железнодорожный, – соображал он. – Наверное, где вокзал». Хотя и туманно, все-таки представлял местоположение вокзала (был там, когда ездили за город), но вот поселок... поселок...
Старуха смотрела на асфальт, на дальний светофор, на высокие дома... И Додик почувствовал себя опытным. Знает, как переходить улицу (сперва смотришь налево, потом направо), что означают цвета светофора и зачем в надуличном круге нарисован велосипед. Напротив, в пыльном дворе, топтались на грядках. Старухе, конечно, невдомек, а Додику проще простого: кто-то купил машину, на месте клумбы будет гараж.
Старуха была изумлена городом. И неуверенно смотрела на Додика: что дальше, провожатый?.. И Додик сказал с притворной беспечностью: поселок железнодорожников – пустяки, совсем рядом. Он проводит ее. Как-никак, вылезла из трамвая по его вине.
Додик нес старухин сундучишко и рассказывал о городе. Гордился своими знаниями и говорил рассудительно, как папа.
Трамвай – вчерашний день городского хозяйства. Когда грохочет под окнами, на буфете звякает посуда, и мама сходит с ума. Поэтому скоро пустят троллейбус. Обещали в прошлом году и заасфальтировали две улицы. А летом асфальт расплавился, было смешно: вступишь – и увяз. А вон в том доме на чердаке, в башенке, живут голуби...
В разговорах добрались до вокзала. На площади Додик подошел к милиционеру и по праву более опытного предъявил бумажку с адресом. Милиционер послал на автобус. Они обогнули асфальтовую площадь и на обочине, в пыли булыжного шоссе, пристроились к очереди.
Люди сидели на мешках и курили. Старуха сказала Додику спасибо, теперь авось доберется... Но Додик не хотел уходить. Быть может, впервые ощутил, что нужен кому-то. И нужны не его отметки, нужен он сам... Да и как оставить старуху? Снова заблудится...
На мешках засмеялись. Тетка с баранками (она несла их, как солдат скатку, – через плечо) отломила с веревки два полукруга и дала Додику.
Когда к остановке подкатил автобус, старуху пропустили вперед. Додик задерживал очередь (не умел вскочить на высокую подножку), и водитель постучал монетой по стеклу: быстрей нельзя ли!
– Чего стучишь? – проворчала старуха. – Люди. Не птицы. С ногами.
В автобусе шумно. Додик притаился у окна и слушал, как на заднем сидении поют под гармошку:
Если вас ограбят раз,
Вы, конечно, вскрикнете.
А когда ограбят два,
То вы уже привыкнете.
Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Додик не понимал песни. Вроде бы грустная. А голоса веселые...
– В армию провожают, – сказала тетка с баранками.
Гармошка пиликала всю дорогу, но уже не так – нежней и понятней. А Додик глядел в окно. Автобус подскакивал на булыжнике, расплескивал воду в лужах. Порой шелестела щебенка. И Додик смотрел на город, в котором родился и вырос и с которым прежде никогда не встречался.
Уже вышли ребята с гармошкой, на прощанье сыграв «Мы едем, едем, едем в далекие края», вышла тетка с баранками, еще раз угостив Додика, а они все ехали и ехали, как в песне, в далекие края.
– Ну и завезла я тебя! – сказала старуха. – Дома-то, небось, хватятся...
– Нет, – сказал Додик, – они думают, я в школе... У нас диктант сегодня.
Старуха развязала мешок и достала банку из-под баклажанной икры, а на самом деле – с медом. Мед жидкий. Додик макал баранку и ел. Очень вкусно!
– А у меня внучок вроде тебя... в школу ходит.
– Поселок железнодорожников, – пропел водитель. – Кто спрашивал?
И Додик со старухой вышли.
Поселок состоял из теплушек и пассажирских вагонов, которые осели на жухлой осенней траве. С них соскребли надписи и цифры, высунули из окошек железные колени печных труб и жили не первый год. Но вагоны были вагонами. И застиранные буквы оповещали: спальных мест 68. Или: тормоз Матросова.
На крыше дома с «тормозом Матросова» топтался мужчина. Пилил доску, свесив один конец и прижав другой сапогом. Над огородами, между домами-вагонами, ветер раздувал белье, и мокрая простыня шлепнула Додика по щеке.
– Эй, кто там? – крикнули с крыши. – Чего надо?
Додик хотел вежливо объяснить, как тогда с милиционером, но не успел.
– Телёнковы здесь живут? – спросила старуха. – Зина Телёнкова... Муж у ней Петр, сцепщик.
– Теленковы, что ль? – усмехнулся мужчина. – Вон ихняя дверь, третья.
Третья дверь была широко распахнута и сорвана с нижней петли. Войдя, старуха прикрыла ее, и они очутились в темной прихожей-тамбуре. К стене приколочен умывальник, под ним на табурете – большая миска. Додик нажал на гвоздь, воткнутый в рукомойник. Шлепнулась капля.
– Не шуми, – сказала старуха, – в гостях мы.
В комнате бранились. Мужской голос талдычил:
– Ты мне за эти полста ответишь!.. Куда девала?
– А ты в субботу с Егором пил? – спрашивал женский голос. – А деньги где взял? От семьи, от детей оторвал!.. И за что мне такая жизнь?.. В самстрой не записался... Мужик называешься...
– Когда я пил-то?.. Мы сейчас у Егора спросим! – Мужчина саданул по двери и увидел старуху с Додиком. – А-а, милости просим! Родственники! – Приволок в комнату мешок и сундучишко. Торжественно, как трофеи, водрузил на стол. – Милости просим! Располагайтесь! На шею садитесь! – Сдернул с кровати покрывало. – Ложитесь, мамаша, отдыхайте!
Посреди комнаты, руки в боки, стояла женщина. Кофта расстегнута. Из-под шеи, туго обтянутые кожей, торчат ключицы. Глаза синие-синие, злые... Женщина сказала:
– Право, мама, нашли время – приперлись... Звал, что ли, кто? Без вас повернуться негде... Вечером Санька придет... уроки готовить...
Додику стало стыдно... Еще недавно шел со старухой по светлому городу. Трещали трамваи. Люди заравнивали клумбы и огороды. На перекрестках улыбались милиционеры. Если что не так, брали под козырек и, пожалуйста, направляли по точному адресу. И Додик хотел увести старуху обратно, на асфальтированные улицы, к милиционерам...
– Идемте, – повторял он, – идемте!
– Да куда ж идти, дурачок? Дома я.
– К нам идемте, к нам! Я вам папу покажу и маму... Идемте!
Она пыталась освободиться, но он вдруг сам отпустил руку...
– Ну, что стоишь? – неожиданно закричала старуха. – Мать приехала, принять не можешь! Кофту застегни!
Но дочь не стала застегивать кофту, а вместо того заплакала и села на не застеленную кровать, прямо на синее ватное одеяло.
– Ладно, – сказала старуха, – не реви!
..............................
Домой Додик вернулся к вечеру.
– Вот и пришли, – говорил старухе. – Наше парадное пятое, а этаж восьмой. Но это не страшно – у нас лифт.
– Ну и хорошо, – сказала старуха. – Пришли, и хорошо. Я теперь назад поеду, к своим. Внука погляжу... А ты иди. Тебя как звать-то?
– Додик.
– Это как же по-нашему?
– Давид.
– Ну, иди, Давыдка. Дождь скоро.
Но Додик не мог отпустить старуху. Повел ее к лифту, и прежде чем войти она вытерла ноги. Поднялись. И перед наружной дверью старуха снова зашаркала.
...А мама уже перезвонила во все милиции, была в школе. Сама бегала по городу с каким-то дворником... Но вот, – гора с плеч, – сын явился!
Додик дергал маму за платье липкими от меда руками и говорил, что бабушка останется у них...
– Конечно, – сказала мама, – она будет с нами. – И улыбнулась: хорошо быть ребенком!
Зазвонил телефон.
– Восьмое отделение? – сказала мама. – Да, цел-невредим... Передайте лейтенанту Гвоздикову... – И повесила трубку. – Сколько народу не могут найти одного мальчика... Надо будет написать им благодарность.
Пришел папа. Вымыл руки, сел за стол и нахмурился: не квартира, а проходной двор!
За чаем папа спрашивал у старухи, откуда она.
Из деревни. А молодые тут. Который год маются... Ну и приехала зятя с дочкой уламывать. А то у них от той жизни вагонной – ссоры-раздоры... Да и внуку Саньке будет лучше на воздухе.
Папа солидно сказал:
– Ну, семейное дело – особое дело... А как с озимыми? Отсеялись?
Попили чай. На дворе лил дождь, осень брала свое. Папа велел Додику отправляться на боковую. О прогуле побеседуем завтра... Подумаешь, прогул! Додик был счастлив.
– Вы не уходите, ладно? – сказал он старухе.
Но старуха вскоре ушла. Ей предложили деньги за то, что привела Додика, не дала пропасть. Она поблагодарила. Уходя, заглянула. «Спишь, дурачок!» – и, помяв, положила бумажки на тумбочку.
Потом мама перетирала посуду, а папа сердился: зачем?.. Мама помалкивала. Не могла же она, в самом деле, признаться, что проверяет, все ли на месте. А вдруг эта старуха... ну, взяла что-нибудь ненароком. Мама думала: Додик – ребенок. Проснется, а старухи нет – расстроится. И спросила у папы, не подарит ли сыну свою ручку. Додик уже достаточно выработал почерк. А ручка старая.
Папа не возражал – подарит. Хотя насчет почерка – ерунда. Не надо только считать по ночам рюмки. Старуха ничего не брала, он сам следил всю дорогу. И вообще, в этом доме спят когда-нибудь?
Утром мама говорила Додику:
– Эта старуха чужая. Вот мы здесь свои: ты, папа, я – одна семья. А она чужая, не наша.
Додик увидел ручку, и мама заторопилась:
– Додик, ручка твоя. У папы будет другая... На€ тетрадку! Напиши что-нибудь.
И Додик написал:
ЭТА СТАРУХА ЧУЖАЯ.
Хотел написать еще что-то. О том, как нелепо и страшно делить людей на своих и чужих: три человека свои, весь остальной мир – чужие. Но ничего не написал. То были чувства, а он не умел выражать их словами.
И ручка не помогла ему. Она была самая обыкновенная – автоматическая ручка. И Додик отодвинул ее. Нужно собирать учебники и тетради, засовывать в портфель, вдыхать свежий воздух перед уроками...
Все началось с авторучки.
1957
Поздняя сноска
ОБ АИСТЕ
Талмуд говорит, что аист на иврите, святом языке, зовется хасида, то есть благородным и любящим, ибо любит свою подругу и птенцов.
Да, но почему тогда в Священном Писании причисляют его к нечистым птицам?
Потому что дарит любовь лишь своим.
Мартин Бубер. «Десять ступеней». Хасидские притчи
Ицик женится
В далеком году некто Фигантер окончил институт. Война застала его на четвертом курсе, вот в армию и не взяли. Начинал в Москве, а диплом вручили в Челябинске. Честь по чести. С печатью и подписью. Станкин имени Сталина. Станко-инструментальный институт.
Туда через много лет поступал Дима Ретенбург, когда его не приняли в Ленинградский судостроительный. Из-за фамилии. А Фигантера не взяли в МГУ, на физмат – по причинам иного свойства. Но Дима женился на Маше Степановой и добился-таки своего. А Фигантер покорился предлагаемым обстоятельствам.
В Челябинске жили тем, что ходили на станцию. Там нагружались и разгружались многочисленные учреждения, преимущественно столичные. Но столы, стулья, шкафы, – как говорила некогда моя мама, – ног не имеют. И вот начальник АХО (административно-хозяйственного отдела) нанимал студентов, и канцелярская утварь разносилась по местам... А платили им твердой валютой – водкой и табаком.
В Москве, до войны, на младших курсах, Фигантер подрабатывал в метро – таскал по ночам катушку с кабелем.
Гляньте на картину Перова «Тройка». Где ребятишки-подмастерья на себе воду везут. Ну, не совсем на себе – на салазках... Однако везут.
А тут вместо бочки – здоровенная колесница с толстыми шинами из цветного металла. И при соответствующем освещении они дали бы блеск, тяжелый и тусклый, как волосы женщины. И отразились бы в воде под ногами, как луна в речке.
Но света там не было. И воздуха тоже.
И маленький рыжий мальчик хватал его ртом, как на картине Перова. И медленно раскатывались за ним медно-свинцовые жгуты, которые висят теперь на туннельных боках, когда мы проносимся мимо по станциям второй очереди.
Его, наверное, растила бабушка, какая-нибудь древняя еврейская старуха, которая в слове «воспитание» опускала начальные буквы. «Все дело в питании», думала бабка. А родители были партийные работники. Дядька – секретарь обкома, член ЦК...
И с такой родословной отвергли его в МГУ на ядерной физике? Раскручивал кабель и грузил столы?.. Да иди ты! Вон соседка моя – Ирка Бубликова. Папаша ее – всё про всё – шофер. Два месяца кого-то возил. И то она в ИВЯ заскочила, в Институт восточных языков, на суахили вякает.
А Фигантер работал в Магнитогорске. Пом. мастера. Ремонтно-механический цех. Ремонтом и механикой занимаются – РМЦ. И ни в Ре, простите, ни в Це наш Фигантер...
Пошел к начальнику. Так, мол, и так. Кончали ускоренно, практики никакой. Ни в Ре, ни в Це. Переведите слесарем.
Начальник посмотрел на него долгим взглядом.
– Ах ты, – говорит, – сука рыжая! – Многоточие. – Знаешь ведь, на фронт тебя по твоей биографии не пошлют. А только есть у нас места и для таких, как ты. Туда тебя! – многоточие. – Сюда тебя! – многоточие. – С инженерным дипломом слесарем работать? В военное время знания укрывать!
Начальник цеха прогнал Фигантера и порвал его заявление. Как вы догадались по обилию многоточий, это был добрый человек.
И в течение полугода работал Фигантер две смены подряд. Первую – пом. мастера, вторую – под. слесаря. Подручным он был. У слесаря.
Рисуйте в уме благостную картинку, как носятся инструменты за стариканом. «Ключ на двенадцать давай!» – изображают это в кино... А я вам скажу: очень бы ему пригодились та вокзальная водка и тот табак.
А был у него приятель – Прах Прахович Прахов, прах побери! Такой вполне местечковый увалень – напарник по разматыванию катушек и переноске тяжестей. И тоже, конечно, в ремонте ни бум-бум. Ни в Ре, ни в Це. Но – понимает механику. И покуда Фигантер слесарное дело постигает, Прах в конторе сидит.
 Сидит, сидит и сидит. И до конторки
досиживается.
Сидит, сидит и сидит. И до конторки
досиживается.
– Ты ему не завидуй, – говорит доброе Многоточие, – прах с ним! Тебя, по твоей биографии, в контору, конечно, не возьмут. Зато и жизнь будет спокойная.
– Я не завидую.
– В контору тебя не возьмут, – долбит Многоточие, – а слесарем всегда будешь...
Как молодые специалисты жили они в бараке. Но тут, по случаю кабинета, предоставили Праху самостоятельное жилье. Одна юная докторица, со второго (женского) этажа, спирту им припасла. Но сама, между прочим, на празднике не появилась.
Вот выпивают Фигантер с Прахом, беседуют:
– Я тебе не завидую! – кричит рыжий Фигантер, краснея всеми веснушками. – У тебя же профессии нет! Всю жизнь за кресло держаться!
Чокается Прах с Фигантером, хохочет:
– Ой, – говорит, – держаться! Еще как, – говорит, – держаться! Хватит, – говорит, – другим в мягких креслах сидеть. Дайте и нам немножечко.
Веснушки у Фигантера запылали, налились, как болячки, и пошли гулять по лицу в «броуновом движении».
– Да ведь другие, – кричит, – по заслугам сидели! – А из веснушек прямо каша сделалась. Кипят веснушки, булькают пузырьками. – А ты ночей спать не будешь, как бы не скинули...
Закусил Прах. Спирт в себя принимает.
– Эх ты, – говорит, – Ицик! (Так Фигантера звали.) Да кто меня скинет? Из Москвы, – говорит, – дела наши проверить никак невозможно. А мыслимо – только бумаги... А уж бумаги, – говорит, – я напишу! Бумаги, – говорит, – предоставлю!
Тут спирт кончился. Прахов под стол спикировал.
– Давайте, – Фигантер говорит, – круг почета сделаем...
Взвалили Прахова на плечи да по бараку и понесли.
Песенка «Ицик женится» очень бы им пригодилась. Но никто ее не слыхал, включая Фигантера. Он эту песенку от дочки перенял. Лет, округлим, через двадцать пять. Когда «семь сорок» плясали. «Одесская полька» называется...
– Стой! – Фигантер командует.
Остановились. В дверь № 5 тихохонько постучались...
– Вот, Фаина Зиновьевна, – нежно Фигантер пропел, – Прах Прахович нас покидают...
– Ах! – за спиной ее мама вскинулась. – Страх-то какой! Что водка с людьми делает, Фаня!
И на другой день, не опасаясь соперников, Фигантер сделал Фаине Зиновьевне предложение.
– А знаете ли вы, Ицик, – спросила она потупившись, – где находится мой папа?
– А знаете ли вы, Фаня, – спросил он, отводя взгляд, – где находится мой папа, и где моя мама, и мой дядя, и моя тетя, и мой двоюродный брат?
Тихо женщина стучится
В дверь соседскую чуть свет:
– Правда ль, что
решил жениться
Сын мой младшенький,
сын мой Ицик?
– Правда! – говорит сосед.
Мать не верит, мать стучится
И к другим соседям в дверь:
– Правда ль,
что решил жениться
Мой сынок, послушный Ицик?
– Правда, ты уж нам поверь!
Мать стучится, хоть боится,
К ребе старому в окно:
– Правда ль,
что решил жениться
Мой сынок, мой милый Ицик?
– Да женился он давно!
Добрый начальник Многоточие рекомендовал Фигантера в члены ВКП(б), как называлась тогда коммунистическая партия. Они держали в своих скобках «б» – неприличную букву – в память того дня, когда на каком-то съезде по какому-то вопросу одержали победу над противником. Большинством в один
голос.
Большевики, значит. А те – меньшевики.
Как ликовало бы большинство народа, если бы вдруг доказали, что земля плоская. А никакой не шар!
Подумать только, какие-то шарлатаны морочат нам голову. Да за кого нас принимают? Надобно ослепнуть и оглохнуть, и встать на затылок, потому что их искривленным мозгам все представляется наоборот.
Меньшевики говорили:
– В России не может быть никакого социализма. Тут нужна школа политической борьбы – двести лет парламента. Чтоб научиться демократии и терпимости.
– А вот мы возьмем власть и научим народ демократии и терпимости. И гораздо быстрее, чем в двести лет.
На тридцатом году своей власти, на бюро райкома, большевики спросили Фигантера, почему не отрекся от родителей.
– Мне было шестнадцать лет, – сказал Фигантер растерянно, – я учился в школе...
– И что же?
– Остался один... Бабушка умерла... и в школе собрали собрание... Я должен был выступить.
– Но вы отказались.
– Нет, почему? Я сказал, что прошла неделя, как арестовали отца и маму. Еще идет следствие. Понимаете? Ведь если человека арестовали – это еще не значит, что обязательно виноват. Надо обождать, что решит суд.
– И что решил суд?
– Отца расстреляли, – сказал Фигантер, – маму выслали... Но я уже не учился в школе.
– Где она сейчас? – спросили его.
– На поселении. Врач.
– Переписываетесь?
– Да.
– Помогаете материально?
– Да.
– Скажите, Фигантер, а если бы вам представилась возможность поехать к матери, вы бы поехали?
– Да.
– Но ведь она осуждена как «враг народа».
– Она была осуждена как «враг народа», – сказал Фигантер, напирая на прошедшее время. – И отбыла срок... По всем законам моя мама искупила свою вину.
И его не приняли в партию большевиков. Потому что не созрел. Зеленым оказался Ицик Фигантер.
Зато приняли, – нет, не Прахова П.П. (прах с ним!), – приняли специальное постановление, что первичные организации рекомендуют людей, не достигших должного идейного уровня. И втиснули Фигантера в скобочки. Для примера.
И кто втискивал, и вопросы задавал, и постановления подписывал – он и сейчас работает в каких-то там структурах...
В краю, куда их вывезли
гуртом,
Где ни села вблизи, не то что
города,
На севере, тайгою запертом, –
Всего там было: голода и
холода.
Но непременно вспоминала
мать,
Чуть речь зайдет про все про
то, что минуло,
Как не хотелось там ей
умирать:
Уж больно было кладбище
немилое.
Александр Твардовский
1975
Примечание.
«Ицик женится» – еврейская народная песня.
Перевел с идиша Наум Гребнев.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru