[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2004 ТАМУЗ 5764 – 7 (147)
ОСНОВА ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ
С Давидом Маркишем беседует Татьяна БЕК

Давид, я знаю, что у тебя последнее время выдалось очень урожайным. Появился твой альбом художника Калмыкова. Еще одна книжка повестей и рассказов «Азиатская проза» вышла в Бишкеке в Киргизии. И последние новости: только что в издательстве «Олимп» вышла твоя книга «Записки похоронщика», а в «Изографусе» – «Белый круг». Почему вдруг такое изобилие? У тебя всегда так?
– Последние годы – да. Так. Я стараюсь за полтора-два года сделать новую книжку. Русские книги я пытаюсь все же печатать в России, а не в Израиле.
– Тебе важнее читатель российский? И вообще, ты – кто: русский или израильский писатель?
– Кто ты таков – этот вопрос для писателя, который живет в Израиле и пишет по-русски, столь же глубок, как и вопрос, который, пожалуй, еще глубже: кто он таков – еврей? Этот вопрос мы не можем решить всю свою историю. По маме ли, по папе, по бабушке, по дедушке, по убеждениям, по стремлению жить здесь, на своей земле? Никто ответа толком не знает… Так и в литературе. Можно выстроить формулу: я – израильский писатель, пишущий на русском языке. Довольно-таки неуклюжая формула, во всяком случае, стилистически… А у нас есть люди, которые пишут по-английски или по-немецки, по-польски или по-литовски, и все они живут в Израиле. Их творчество так или иначе сопряжено с израильской темой. С еврейской темой вообще, а с израильской в частности.
– А у тебя вообще есть вещи об Израиле впрямую?
– Я такой задачи себе не ставлю. Меня интересует проблема возвращения, проблема обретения корней здесь. Это дает духовную наполненность, мне кажется. Люди в принципе страдают. Евреи, живя в голусе – в Германии, в Америке – страдают, что они не здесь…
– Что такое голус?
– Это – рассеяние. Все, что вне Израиля как исторической родины… Итак, когда люди приезжают сюда, они страдают, что так медленно обретают корни, которые в эту каменистую почву никак не врастают… Это продолжается годами. А русской литературы у нас нет. Есть отдельные книжки, написанные по-русски… После того как наладились связи с Россией, после 85-го, после прихода Горбачева, после возобновления контактов, – у нас издатели перестали печатать наши книжки по-русски без того, чтобы им сначала заплатили… Хотят издавать за авторский счет. Кстати, я этим никогда не занимался.
– Ну, думаю, дело не только в этом, не только в коммерческих мотивах. Для тебя наверняка важен наш, российский, читатель.
– Конечно. Если бы я не печатал книжки в России, русский читатель для меня бы не существовал. Едва ли тираж 500-800 экземпляров, который тут печатается, дошел бы до России… То, что мой читатель живет в России, это совершенно однозначно. В Израиле – тоже… И это «тоже» определяет всю ситуацию. Здесь читатель – это не городской еврей… Пока я жил в России, над всем этим не задумывался. Я считал, что есть евреи и они все живут в городе Москве и Ленинграде. А между тем существует еврейский народ, который в России испокон торговал и водичку в пивко подливал, не отставая от русских в этом ничуть. Но все эти тети Хаи из Шанхая черт его знает где гнездились. По деревням – не по деревням, а по городишкам таким российским… А я встречался только с теми евреями, кто читал книги. Даже инженер-еврей все-таки читал книгу. А тетя Хая, которая торговала, она книгу и в глаза не видела… Когда я приехал сюда, я понял, что еврейский народ – он как всякий другой. В нем если полтора процента интеллигенции есть читающей, то это хорошо. И так во всем мире. И это правильно на самом деле.
– А ты считаешь, что тебя в России читают только евреи?
– Ни в коем случае. В России мой читатель – это русская интеллигенция. Без нее мне бы было (задумался) горше. Потому что у меня есть все же внутреннее ощущение, что там меня читают. Здесь – полтора процента. Конечно, у меня есть книги в переводе на иврит, и это хорошо. Я наверняка экзотичен для израильских евреев, читающих мои книги на иврите. Вот если бы еще я вышел на улицу Тель-Авива в армяке, в лаковых полусапожках и с медвежонком на серебряной цепи – вот это, как у нас говорят, было бы «в самую десятку»… В этом, кстати, есть для меня большой плюс: израильские писатели никогда не видели во мне конкурента. И мои отношения с израильскими ивритскими писателями гениально добрейшие. Чего нельзя сказать о русской литературной среде… Мне очень тепло от того, что я в России выхожу, что меня читают и что обо мне пишут.
– А скажи: то, что ты живешь в Израиле и кругом звучит иврит, а также простирается совершенно иной, чем в России, рельеф, – на твою прозу повлияло? Ритм ее изменило?
– Я не думаю, что иврит повлиял… Когда я был в ссылке и читал «Иудейскую войну», меня чрезвычайно интересовал вопрос: а был ли Фейхтвангер в Палестине? Когда я читал его пейзажи, то думал: он это видел собственными глазами или он об этом только читал? Вот это крайне важно. То, что я все это увидел, повлияло на мой характер, но на манеру письма – нет.
– Пошли вспять. Ты – сын знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша. Он тут национальный герой. Ты веришь в писательские гены?
– Нет… Я тебе так скажу: это влияние семьи, атмосферы, воспитания. К моему отцу все время приходили писатели. Был бы инженером – приходили бы инженеры, и я бы, возможно, стал как они.
– Когда отца расстреляли, тебе сколько было?
– Мне было 14 лет. 1952 год. Отца расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета. 12 августа 1952 года весь президиум этого Комитета был расстрелян. Мы ничего не знали. Нас тогда уже сослали, но нам в ссылке никто об этом ничего не сказал. Отец арестован – всё. И когда за границей спрашивали об этом русских писателей (например, Полевого или даже Эренбурга), то они отвечали – врали: «Мы видели Маркиша, он живой…»
Нас – маму, меня, и брата Симона, и сестру, которую взяли в Киеве, сослали в Сибирь. Нам пришли сказать, что мы высылаемся как члены семьи изменника родины – ЧСИРы. Была такая аббревиатура. Мать сказала полковнику, который приехал нас сажать и везти: «Гражданин полковник, нам по закону полагается пять лет, а вы говорите: десять лет». И он ей ответил: «Гражданка, те, которые 25 лет получают, тоже на советскую власть не обижаются…» Так и сказал. Гениально выразился. И поехали мы в Казахстан. И не знали, куда нас везут…


Фотография с вечера, посвященного Перецу Маркишу, подаренная Давиду А. Ахматовой с ее автографом.
– И сколько времени вас везли в поезде?
– Через пересыльные тюрьмы месяца полтора. Я пытался скрыться и спастись – с ведома старших, разумеется. Я бежал, прятался, приехал в Баку, и там меня накрыли и сказали, что если я в течение недели не появлюсь «где надо», то меня, малолетку, повезут из Баку в «вагоне ЗАК» по пересылкам… А это крайне несладкая вещь. Уже в Казахстане, посреди пустыни, где есть было нечего и заработать было почти невозможно, меня предупредили: на Сыр-Дарью не ходи, там, конечно, рыбка водится, но это в шести километрах от кишлака. А тебе можно отходить только на пять. Отойдешь на шесть – все получите по 20 лет каторжных работ… Довольно подло это звучало, если разобраться.
У меня эта история есть в романе «Присказка». Роман о повзрослении подростка в экстремальных обстоятельствах. Я его написал, сидя в «отказе»: 70–71-й год. И когда я приехал сюда, «Присказка» уже здесь меня ждала, а потом началась история, немножко напоминающая советские времена. В Израиле каждый новый приезжий писатель, никому еще здесь не известный, сначала проходит проверку: в мире где-нибудь его напечатают? Заметят?
Немного похоже на судьбу грузин или нивхов с чукчами в Советском Союзе: в Москве таких ребят напечатали, в Гослитиздате, – значит, классики, значит, и дома можно их холить и лелеять. Но сначала надо прославиться в Центре…
Моя «Присказка» вышла сначала в Рио-де-Жанейро на португальском языке, а потом уже вернулась к нам в Израиль. Потом она вышла в Штатах, в Европе… Много чего было с этой «Присказкой», название которой так нигде и не смогли перевести ни на один язык.
– Давид! Мы с тобою знакомы с середины 60-х. Ты же начинал как поэт и ярко. Куда ушла поэзия? Ты от нее отказался? Почему? Или сложнее – перекачал поэзию в прозу?
– Мне повезло. Я сначала учился с очень интересными ребятами в Литинституте, а потом с еще более интересными ребятами на Высших курсах сценаристов и режиссеров кино. Наш набор называли «лицеем»… Да, я писал стихи. Очень много переводил (так зарабатывал) с подстрочника, работа была. Стихи я в России напечатал дважды – один раз в «Юности», другой раз – в «Знамени», у Гали Корниловой. И это все. А прозу почти не писал и был уверен, что никогда писать ее не буду. А буду писать стихи всегда!..
Первый рассказ я показал Олеше Юрию Карловичу.
– Да ты что!
– Да-да. Маленький рассказ «На горе» – я его потом потерял. Это о том, как парень и девушка объясняются в любви и сидят на горе, а гора довольно крутая с травяными склонами. Это мешает им перейти к решительным действиям: они все время сползают вниз и не могут нормально устроиться.
– Метафора?
– Скорее реальность. Но там было несколько метафор, о которых Олеша и говорил. Например, у меня была «лесенка позвоночника» – он отметил. Прямые оценки он терпеть не мог, ненавидел… Мы сидели в кафе «Националь», я туда часто заходил, по два-три раза в неделю (там собирались остатки старой богемы, и они меня приняли, и я был самым молодым в их кругу). Олеша меня называл на «вы», хотя я был мальчишкой – мне было двадцать лет… И Олеша сказал так: «У вас есть хватка».
– То есть отозвался о твоей прозе обнадеживающе?
– Да, не отверг это дело.

На вечере в ЦДЛ в 1960 году, посвященном 65-летию Переца Маркиша.
Верхний ряд, стоят (слева – направо): Давид Маркиш, Семен Рабинович, Лев Пеньковский, Иосиф Керлер, Авром Гонтарь, поэт Арон Вергелис, сидят (слева – направо): Вильгельм Левик, Эстер Маркиш, Сергей Шервинский.
– Расскажи еще, кто ходил в «Националь» кроме Олеши?
– Еще из старших туда ход
ил и на меня огромное влияние оказал Вениамин Рискин, мой друг и друг раздружайший Олеши, а до войны – Бабеля. О нем Пирожкова в своей книге про Бабеля пишет подробно.
– Он, Рискин, был журналист?
– Он был писатель, но точнее так: он был человек устной цивилизации. Он так умел рассказывать! С писанием было хуже. Надо было записывать его сюжеты, но никто не записал. Он умер своей смертью, пережив Олешу года на четыре.
– А на что он жил, Рискин, где работал?
– На птичьи подаянья! Веня мог иногда написать репризу для цирка… Еще в «Националь» ходил регулярно Михаил Аркадьевич Светлов, Марк Ананьевич Шехтер сидел со своей палкой. Володя Бугаевский туда приходил, Тхоржевский. Все умерли.
Второй раз в жизни я показал прозу, если говорить о мастерах, Александру (Шере) Шарову. Ему понравилось.
Потом я сдал в издательство книгу прозы – она шесть лет пролежала: ее в «Совписе» перебрасывали из года в год. То год Ленина, то год юбилея Советской власти… У меня сохранилась внутренняя рецензия, где Игорь Виноградов писал, что какие-то куски рукописи ему напоминают молодого Горького.
– Неплохая параллель.
– Неплохая, согласен. Прекрасный прозаик (нам его просто в советской школе навязывали и искажали) и драматург – дай Б-г.
Должен вспомнить еще одно обстоятельство, которое на мою литературную жизнь повлияло. Эта история мне запомнилась четко. Уже на первом курсе Литинститута я рвался в поездки по стране. Просто рвался! Кто-то должен был посылать в командировки. И я начал работать внештатно в «Огоньке». Первую командировку мне дали в Киргизию. Я сам ужасно хотел в Азию, потому что я там жил в ссылке… Тянуло меня туда, тянуло.
Я поехал в Киргизию, написал очерк «Туннель». Приехал в Москву, сдал, пошло. Это была, по-моему, моя первая серьезная публикация. Год 59-й…Мой очерк передали заведующему отделом иллюстраций, родному брату Кольцова. Не дай Б-г, не Ефимов! Нет. Это был третий брат – фотограф и завотделом иллюстраций «Огонька». Он единственный сохранил настоящую фамилию семьи – Фридлянд. Он меня вызвал и спросил: «Это ваш очерк?» «Да». Он и говорит (такой симпатичный был человек): «Вы знаете, мне очень понравился ваш материал». Потом мы разговорились, и он сказал: «Вы не будете ни поэтом, ни журналистом – вы будете писать прозу». Я с ним спорить не стал, хотя и сомневался. Это был простой очерк, просто были в нем какие-то метафоры. Больше ничего… Но он мне сказал, что я буду писателем, – и я эту историю запомнил.
– А мне твои стихи, знаешь ли, нравились… Я до сих пор помню наизусть одно четверостишие:
И я, и мусульманин оный
Обиду сможем перенесть,
Хотя высок пред пешим конный
И с лошади прискорбно слезть, –
так? Энергично было – и запомнилось… Из чьего рукава ты как молодой поэт вылетал? Из Киплинга, из Гумилева, а?
– Сложно ответить. Я тогда такой был темный! Откуда я вылетел в поэзии – ответить затруднюсь. Общий гул… Скорее всего пастернаковский. А Гумилев меня не увлекал по той же причине, по какой никогда не увлекал Грин. Розовая пена романтики, а костяка не видно.
– А в прозе кто были твои учителя?
– В прозе – скажу четче. У меня были два кумира – Андрей Платонов и Томас Манн. У Томаса Манна две вещи – «Иосиф и его братья» и гениальный роман «Избранник». Эти писатели так велики, что ни при каких условиях нельзя им подражать. И это великое счастье. Я могу видеть в них своих кумиров, но подражание? Нет, ребята, нет!
– Когда ты впервые Платонова прочитал?
– Когда он впервые в Союзе вышел, а Лева Збарский, если не ошибаюсь, его оформил. Начало 60-х. Книга называлась «В прекрасном и яростном мире». Она вышла первой в череде последующих… Я стал искать людей, которые знали Андрея Платонова.
– И кого ты нашел?
– Вику Некрасова. И он мне о Платонове рассказывал. Вика рассказывал, как он с Платоновым ходил по маленьким распивочным и рюмочным вокруг Литинститута. Заходили туда, выпивали по рюмке, начинались разговоры. И вдруг Платонов отключался – и только слушал разговоры людей за стойкой, за столиками… Он слушал язык там, где следует его слушать.
– А где ты слушал свой язык, который у тебя, кстати, очень демократичный, чтобы не сказать народный?
– Няня у меня была такая. У меня была няня, при которой я родился и которая с нами была в ссылке. Всю жизнь жила с нами как член семьи. Ее звали Лена Хохлова. Хаперская казачка. Она приехала в Москву молодая. Большевики погубили ее отца, муж ее умер от оспы. У нее был горбик, о котором она говорила так: «У меня перекошение талии с тяжелого подъему»… Она знала русский язык так, что просто диву можно было даваться. Диво! Это был настоящий живой русский язык.
– Ты вполне мог погрязнуть в журналистике, как бывало со многими талантливыми, но недовоплотившимися прозаиками… Что тебя заставило сделать принципиальный прыжок от очеркистики к серьезной прозе?
– Я не увлекался журналистикой. Я относился к ней крайне легкомысленно. Моя специализация там и тогда была так называемая «экзотическая тема». Меня не интересовало строительство завода – меня интересовала охота на Памире, снежный человек…

Эстер Маркиш.
– К кому же ты в Литинституте поступил в семинар?
– Я тебе скажу честно. У меня уже тогда была идея из Советского Союза слинять… Что такое свобода, я почувствовал впервые в жизни в условиях несвободы, в ссылке. И я дальше всегда хотел быть свободным евреем в свободной стране. Я хотел быть евреем – это серьезно. И когда я в ссылке впервые читал Фейхтвангера, я читал эту книжку не как третье лицо, а как человек оттуда. Этот роман – «Иудейская война», повторяю снова и снова, сделал для меня очень много.
– А как такая книга попала в глухую ссылку?
– Кто-то привез… Кто-то прислал… Не помню. Неважно. Может, у брата взял. (Он потом, как известно, писал комментарий ко всем трем томам.)
– Симон тебя на сколько был старше?
– На семь лет.
– Мы потом о нем подробней поговорим. Ладно?
– Да. И вот я уже в ссылке абсолютно точно понял, что потрачу жизнь на то, чтобы оттуда уехать сюда. Не потому что там было плохо. Потому что здесь было хорошо.

Давид и Симон.
– А ведь ты очень любил Россию и был самым что ни на есть российским человеком… И любишь, конечно.
– Конечно. Это страна, где я вырос. У меня никаких никогда не было к ней претензий, хотя меня обвиняли черным образом, что я – русофоб и так далее. Глупости на постном масле. Я не любил, ненавидел и до сих пор ненавижу коммунистический режим Советского Союза. Это – кошмар, чего мне тебе рассказывать. Но русский народ к этому отношения не имел никакого.
– Такая же жертва, как остальные народы «союза нерушимого», да?
– Абсолютно. Власть есть власть, народ есть народ. Его нельзя обвинять. Глупости это все! Если шайка негодяев наверху, то при чем здесь народ? Меня никогда не интересовало, кто какой национальности… «Ты какого цвета?» «Красного!»
– О чем бы мы с тобой ни заговорили, ты каждую минуту говоришь: «Этот с нашего курса… Эта с нашего курса…» Что же это за курс такой волшебный был?
– Айги. Старше курсом – Белла, Юнка Мориц, Ваня Харабаров, Юра Панкратов… Куняев был серый как мышь. Хоть бы острый был. Нет, серый. Вынесло его известно куда.
– А с кем ты учился на сце
нарных курсах?
– Там были ребята… Ну, просто я тебе скажу, блеск! Скажу. Я два года учился в мастерской Габриловича с Андреем Битовым. Рустам Ибрагимбеков. Талантливейший Резо Габриадзе. Володя Маканин. Грант Матевосян. Гоша Полонский. Такая там крепчайшая получилась мышца.

На могиле брата.
– Поговорим же наконец о твоей романистике. Я с интересом прочла роман «Стать Лютовым», но недопоняла, чего в нем больше – документалистики или художественного начала. Вот и в критике спорили: он – о Бабеле? Или не о Бабеле?
– Этот роман не о Бабеле, а об Иуде Гросмане. Но вспомним первый мой роман. Это была «Присказка» (мы о ней уже говорили). Объемная работа. Я ее писал, сидя в отказе. На мой взгляд, она слабенькая… Например, в одном месте я написал главу, забегая вперед, а этого делать не следует никогда. Надрывается хорда романа. А это антисага. Высвеченные куски памяти как композиционный прием. А когда не прием, но просто мне захотелось сдвинуть главу вперед, то она туда ложится со скрипом и колесики не подходят.
– Роман «Белый круг» посвящен личности легендарного художника Калмыкова, малоизвестного в широких кругах гения… Как ты на эту фигуру вырулил? Расскажи.
– Юрий Домбровский, замечательный писатель… Он был удивительный человек. Так вот, я прочитал его «Факультет ненужных вещей» и спросил: «Юра, скажите, вы этого художника реально видели или вы его выдумали?» (Он, герой-художник, которого Домбровский помимо героя главного провел через весь роман, меня особенно заинтересовал.) Юра ответил, что он его видел, был с ним знаком и так далее, и так далее. Таков был мой первый интерес к Калмыкову. А потом я писал очерк о Лисицком и начал заниматься в этой связи русским авангардом. И тут всплыло имя Калмыкова (на мой взгляд, невозможно говорить о русском авангарде вне этого имени). Я считаю, что в авангарде есть четверка великих: Малевич, Филонов, Лисицкий, Татлин. И пятым в этой группе является Калмыков. Он никогда не занимался тем, чем занимались эти четверо, – у них у всех были «школы», даже у Филонова. Этот же за собой никого не вел – он работал сам. Учился он у Петрова-Водкина. В 18 году он бежал от большевиков и писал потом Луначарскому: «Видите, можно жить в провинции и быть неплохим художником», – о себе.
Он бежал в Оренбург. И там он – как Шагал Витебск – пытался раскрасить город. К какому-то празднику хотел раскрасить дома, чтобы сверху они выглядели абстрактной композицией. У него были особые отношения с Космосом… Он, прямо скажем, не относился к самым уравновешенным людям. Но не был ни маргиналом, ни сумасшедшим. Писал вещи, гениальные совершенно! Взять его письма к Кандинскому. Там он писал о точке и о ее значении в изобразительном искусстве, тем самым противореча Малевичу. Не квадрат – основополагающая доминанта, а точка. (А квадрат есть обтесанная точка.) Десятки сотен рукописных страниц – его трактаты.
– Теперь расскажи немного про книжку рассказов, которая вышла в «Олимпе».
– Ты же знаешь, что издать книжку рассказов – довольно тяжелое дело. И на Западе еще сложнее, чем в России. Так что я этой книжке очень рад.
– Почему что-то у тебя «тянет» на роман, что-то на повесть, а что-то на роман? Какова связь темы и объекта повествования с объемом и жанром вещи?
– Можно налить спирт в столитровую емкость. А можно – в чекушку: 250 граммов. Естественней разлить по чекушкам… А вообще-то, мне проще управляться с формами более объемными, чем рассказ.
– Кто тебе особенно близок и интересен из современных писателей?
– Думаю, один из лучших романов второй половины ХХ века – это «Андеграунд» Маканина. Хотя он меня вначале, скажем так, нервировал приемом со скобками, но потом я привык к этим скобкам, как привыкают к костям в рыбе. Мне кажется, что хороший прозаик – Слаповский. А к такой обильной «женской прозе» я… спокоен. Например, к «Кыси».
– А Искандера любишь? (На мой взгляд, у вас много общего.)
– Очень. Но только он, на мой взгляд, слишком завинтил рамку. И из нее практически не выходил и не выходит. Его тематика, его стилистика… У него нет широкого романного поля. А «Сандро из Чегема» – это скорее сага в рассказах. А для меня роман – другое. Когда я писал эту штуку, «Белый Круг», я писал роман по всем законам жанра. Сначала – пучок линий, потом они расходятся, а в конце, на последней странице, они опять сходятся. Ни один герой не потерян, и никто никуда не делся. Там должен быть пейзаж, должен быть портрет. То, чего теперь почти не делают. Это – мода. Люди идут за модой. Мода на скудость. Мода на то, что они называют модерном… Никогда роман не умрет, пока существуют глаза у человека. И книжку никогда не подменит компьютер.
Вот ты спросила меня, почему так резко закончилось мое стихописание. Я почувствовал, как из воздушного шара словно бы выходит воздух, – так и из меня… Это было в пору, когда я сидел в отказе. Мне уже исполнилось тридцать. Я ощутил, что у меня нет больше тяги писать стихи, а появилась, слава Б-гу, тяга писать прозу. Кстати, поэтическую прозу я терпеть не могу!
– Кого, например, ты имеешь в виду?
– Борис Леонидович Пастернак писал поэтическую прозу. Он в «Докторе Живаго» сводит и разводит героев совершенно произвольно, при неестественных обстоятельствах. Сводит и разводит, как ему вздумается, как Б-г на душу положит. В стихах – ради Б-га. Любые коллизии своди и разводи. «Все вернулось так же беспричинно,/ как когда-то странно началось…» Но проза (роман особенно) – вещь иная: все попытки расшатать структуру обречены на провал. Роман – это жанр, который построен на определенных правилах. И если ты пытаешься их разрушить, то ты прозу не обновишь, не «модернизируешь». Роман есть роман, и он подчиняется законам своего жанра.
– Значит, поэзия в тебе все же осталась?
– Конечно. Это как на велосипеде кататься – никогда не забудешь. Или плавать. Десять лет не плавал, а потом раз – и поплыл. Поверь мне, что я и сейчас могу написать «Венок сонетов», если очень постараюсь. Навык не уходит, просто ушла потребность излагать свои чувства и соображения в такой форме.

Перец, сын Давида, внук Переца.
– Твой брат, выдающийся ученый Симон Маркиш (его и аттестовать тут не надо), совсем недавно ушел из жизни. Я знаю, как вы друг друга любили… Это просто была родственная любовь? Или у вас была и литературная близость?
– Одну из своих книжек я Симону надписал: «Моему соавтору…» Почему? Ни одной моей строчки, я имею в виду прозу, не было опубликовано без того, чтобы Симон ее не прочитал. Он был моим единственным редактором. Но он считал, что я делаю это достаточно организованно, поэтому правки его были минимальны. Они касались документальных ошибок, отдельных слов... Однажды мне надо было сократить роман на 100 страниц (а всего там было 350), я сам просто не мог взять нож и резать-рубить. Я просил его помочь. Он сократил роман для журнальной публикации в «Знамени». Здорово порезал как редактор… Симон все мои вещи читал, и мы с ним много говорили…
– А более общие – не просто редакторские – советы тебе Симон давал?
– Никогда. Он занимался русской еврейской литературой. И он считал, что я достаточно типичный представитель этой литературной поляны.
– В чем же твоя типичность?
– Я – еврей, связанный духовными интересами с еврейским народом, с его обычаями, с его историей прежде всего. И – пишущий на русском языке… Вспомним первую половину ХIХ века. Иосиф Рабинович. Богров. Леванда. Они писали по-русски (потому что еврейская интеллигенция, она и в те времена читала по-русски), а тематика и интересы этих авторов были связаны с еврейством всегда… Таков Гроссман. «Жизнь и судьба» – это великий роман. На мой взгляд, один из четырех основополагающих романов русской литературы. «Война и мир» – «Тихий Дон» – «Красное колесо» (хороший ли, плохой) – «Жизнь и судьба».
– Скажи честно: ты полностью прочитал «Красное колесо»?
– Первый Узел читал с карандашом. Потом, дальше, не смог. Надоело… У Александра Исаевича не получается женский образ. Зачем-то он тетку ввел в «Красное колесо», которая на герое скачет, как амазонка на коне… Что это такое? Что-то не то. Не получается.
Но вернемся к Гроссману. Он – военный писатель, скажем так, наряду с другими военными авторами. Мог ли Симонов (а ведь он писал совсем неплохо иногда) написать такое, как у Гроссмана, письмо матери из концлагеря? Как пошел газ… Это мог написать только Еврей Евреич. Только. Больше никто. Надо быть евреем, чтобы прочувствовать то, что Гроссман, когда он писал этот кусок. Не потому, что он писал о евреях в русской жизни – это может любой прозаик, – а потому что он еврей. Это и есть мое определение русской еврейской литературы.
– А помнишь, был такой писатель – Борис Ямпольский?
– А как же! Я знал его. Мы с ним выступали иногда вместе очень активно, на Взморье. Он так делал. Звонит по телефону (передразнивает еврейский акцент Ямпольского. – Т.Б.), зовет бабу. Там: «Ее нет. А кто спрашивает?» Он: «Передайте, что звонил Иванов» (грустно смеется. – Т.Б.). Потрясающий писатель. Его «Московскую улицу» напечатали только в 88 году. Язык какой! А как он передал ощущение страха… Он сам боялся, и я тогда, когда мы тесно общались, его главной прозы не знал.
– Бориса Слуцкого ты знал?
– Знал и неплохо. Сима с ним дружил. Он иногда приходил к нам домой. Когда мне было лет 18, я ему прочитал поэму (называлась «Синий крик»), и он сказал мне, что ему поэма не нравится, но когда ему было 18 лет, он писал хуже… Прекраснейший поэт! Абсолютно сам по себе. Он как Андрей Платонов: за 100 километров его интонацию, единственную в своем роде, различишь. Они оба слышали простых людей. Впрочем, людей других не бывает. Все люди – и простые, и непростые. Есть дураки, которые делают вид… На мой взгляд, необходимо – особенно если ты занимаешься литературой – быть с в о и м в любой среде: от бандитов до академиков, которые говорят на своем птичьем языке.
– Коли мы заговорили про академиков, то – вопрос… Давид, ты не задумывался, почему в России отношения интеллигенции с властью часто принимают довольно безобразные формы? Как сказано в одном из недавних стихотворений Искандера (вот прозаик, который никогда не расстается до конца с поэзией): «И отвращенья апогей/ – инакомыслящий лакей»…
– Это беда России, а не людей. В Израиле заподло интеллигенту льстить власти и вообще к ней приближаться. Власть – коза. Удастся за титьку схватить и чего-нибудь выжать, хоть каплю, – хорошо. Власть приходит и уходит.
– А воспевать власть как Прекрасную Даму?
– Не-е-ет. Это непристойно. Одна из бед России в том, что она освободилась от рабства в 1861 году. Все воспевали рабство как замечательный уклад жизни, очень привлекательный и теплый. Хозяин любит раба – раб любит хозяина. Ну, посекли немного для порядка на конюшне… В истории ничего не проходит просто так. До сих пор слышен трепет раба по отношению к хозяину. Это осталось. И еще: есть две стороны медали (а то и три) – отношение интеллигенции к власти, но и отношение власти к интеллигенции.
– Каково же в России, на твой взгляд, отношение власти к интеллигенции – сквозное?
– Брезгливый страх. А второй слой – зависть. Страх, потому что неизвестно, чего от них, от интеллигентов, ждать. Все им, черт возьми, плохо. А зависть – желание царя остаться в истории. Мы же не ставим своей целью залезть на бронзовую лошадь… И вот тут начинается зависть. Они завидуют людям искусства, потому что люди искусства без видимого труда в историю входят и там остаются. Вот власть и скребёт в затылке: «Подумаешь, написал книжонку или песенку спел, – и останется, в белом пиджачке! А я, лидер партии, скорее всего в дерьме останусь. А?»
– Ну, не все. Петр Первый остался в русской истории и как положительное начало. Несмотря на кровь. Да?
– На мой взгляд, это был единственный настоящий и последний русский царь. Он, конечно, не совсем был в порядке. Депрессии жуткие случались. Пьяница, бабник, психопат… Но он был великий царь.
Первая депрессия была из-за стрельцов, вторая – когда туркам чуть не проиграл. Но зачем он рубил окно в Европу? Кто его туда подпихнул, к подоконнику? Сводник повел его к Анне Монс. Монсиха с ним спала, и он с ней спал, и все это было приятно-хорошо… И вот Петр обнаружил, что на Монсихе надеты трико с кружевами, – и это его совершенно потрясло. Царь впервые пришел на Кукуй – русские цари на Кукуй не ходили, им это было заподло. Пришел: чисто, занавесочки на окнах, герань растет, баба – в подштанниках с кружевами… И ему это понравилось! Образно говоря, Петр попытался надеть на Россию панталоны с кружевами. Но зад не тот.
– Это твоя метафора?
– Моя. Да. Зад оказался великоват не по объему, а по сути. Попробуй надень на русский народ немецкий камзол. Порвется к чертовой матери. Понимаешь? И Петр съехал с катушек окончательно, когда увидел, что ничего не получается из того, что он наметил. Часть получается. Немножко. Но он понял, что при своей жизни он не увидит того, что хотел бы увидеть. Россия останется Россией – и в этом ее прелесть и ее беда. В том, что она – между Азией и Европой. Тот будет героем и настоящим царем, кто сумеет определить Россию как самодостаточное явление. Не ориентированное на Запад и не ориентированное на Восток. А до сих пор – то халат с Востока, то немецкий камзол…
– Когда вышли в свет твои «Шуты», были ли отклики со стороны литературной критики и исторической науки?
– «Шуты» вначале вышли не в России – в России тогда еще большевики сидели. По-русски книжка вышла моя в России только два года назад.
Был историк, который писал, что я все переврал. Что я оскорбляю русский народ. А просто дело в том, что там есть такой кусок: любознательный Петр заглядывает к Шафирову на еврейскую Пасху, а есть сведения такие, что вице-канцлер Шафиров под париком понашивал ермолку. И еще что он не ел свинину (вот это уже точно: его сын, гуляка, говорил одному прибалтийскому резиденту, что папа свинину в пищу не употребляет, и резидент тут же послал об этом донесение своему шефу…) Петр приходит к Шафирову без предупреждения, а там собрались за столом одни евреи на религиозный праздник, собираются пить «пейсаховку». Праздником командует строгий еврей Борух Лейбов, за букву религиозного Закона готовый жизнь положить (его и сожгли на костре при Анне Иоанновне, против Гостиного двора: доигрался). Этот Лейбов сурово объясняет русскому царю, что еврейскую Пасху встречают обязательно в ермолках – и протягивает шапочку Петру. И Петр решает играть по правилам и надевает ее на голову… Картинка кое для кого получается неинтересная: царь в кипе, стыд и срам! Все равно, что Николай Второй натянул бы ермолку или Сталин нацепил вместо генераллисимовской фуражки. Эт-та что ж такое, братцы-кролики! Инородец наступает, хватает просто за глотку!
Вообще, критика мало писала о «Шутах», потому что в России эти два романа – «Шуты» (в российском издании они называются «Еврей Петра Великого») и «Стать Лютовым» – вышли почти одновременно. И писали очень много о «Лютове», а мой Петр ушел в тень. Там важно для меня само полное название: «Шуты», – а дальше так: «Или хроника из жизни прохожих людей». Речь у меня шла о том, что евреи в России – это прохожие люди. Нет, не проходимцы. Они проходят сквозь любую страну – 200 лет вместе, так 200 лет вместе. Со времени присоединения Смоленска при Алексее Тишайшем. Так вот. Эти люди как пришли, так и уйдут. Кое-кто растворится в русском этносе, скажем так. И то не до конца растворится – камешком останется в той земле. Будет камешком лежать.
– Каков твой личный прогноз относительно евреев в России?
– Конец наступает. Почему? Не знаю. Это поколение русских евреев вымрет – умрет. Дети ассимилируются так, как всегда ассимилировались евреи в течение своей истории. Два поколения ассимилируются, а потом подрастают правнуки, которые говорят: «Что-то вы тут засиделись!.» И уезжают. По большей части, сюда.
Первый мощный поток евреев из России был в начале ХХ века – после погромов. В Палестине им было очень плохо: плохо, жарко, крокодилов много. И они сюда не едут, а едут за океан…
Надо понять концепцию здешней жизни евреев. Еще до разрушения Второго храма, то есть до 70 года новой эры, больше половины евреев жили в странах рассеяния – не здесь. В Александрии, в Риме… Они разъезжались по всему свету – как цыгане. Недаром говорят: «Еврей рождается с чемоданом в сердце».
– Ты согласен с этой формулировочкой?
– Да. Согласен. К сожалению. У евреев есть такая национальная особенность, как склонность к непроживанию на собственной земле. Почему – другой разговор. Вот разница между американским евреем и российским. Американские евреи доказывают себе самим и окружению, состоящему из основного, «табельного» народа: они, дескать, не хуже – они лучше. Они охотно втягиваются в сумасшедшую конкуренцию, они достигают успехов в бизнесе. У них есть деньги, они занимают посты в прессе, в аппарате президента. «Мы не хуже вас – мы лучше вас. Мы должны быть лучше, иначе нас затопчут!» – так они вслух не скажут, но между собой подумают. Здесь, в Израиле, так никто не будет выступать и так не скажет. А в России еврей всегда говорил: «Гои… Ну что с них взять?» Но там не деньгами брали в первую очередь, представь себе, а отвагой. Вот то, что делал Бабель. Он говорил: «Я не хуже их – я тоже могу шашкой махать!» И получалось. И льнул к крови…
Я на своем примере скажу. Я в возрасте лет 25-ти сказал самому себе: «Я убью барса». Или: «Я залезу на Памир».
– Ты думаешь, это у тебя шло от еврейского самоутверждения?
– Абсолютно так. Я докажу, что я первый еврей, который взошел на ледник Федченко… И ходил зимой и летом. А там можно было запросто разбиться, гробануться без всякого напряжения. Было здорово!
– А как ты вообще с этим справился?
– Занимался альпинизмом. Ходил. Ездил на лошади. И довольно высоко… Таня, евреи покинут Россию. Оставшиеся сольются с русскими. Попытка возродить старые механизмы всегда обречена на провал. Время ползет не вспять, а либо вперед, либо вбок. Эта попытка возродить еврейскую жизнь в России есть уход вбок. У нее нет будущего.
– А русские синагоги? А многочисленные еврейские общества, в частности, в Москве?
– Очень хорошо. Они ходят на лекции, они активничают… Но это все – для тех, кто пытается руководить процессом. Они считают, что это «мицва», что это очень хорошо.
– Каково будущее русских евреев в Израиле?
– Наше поколение умрет. Останутся наши дети – израильтяне, отличные от нас израильские евреи, уроженцы этой земли. Это совершенно другой компот. Израильтяне – это нация. А те евреи, которые живут в других странах, это очень сомнительная вещь. И никакого культурного сентимента по поводу страны моего исхода у моих детей нету. Люди, которых привезли сюда до школы и которые прошли армию (главное, пройти армию), – они суть полноценные израильтяне. Да, моя бабушка родилась, допустим, в Житомире… Ну и что из этого?
– Поняла. Вернемся к литературе. Пока вы, «русские евреи в Израиле», не вымерли, есть ли у вас здесь своя литературная жизнь?
– Она – копия нынешней российской литературной жизни, только в значительно уменьшенном масштабе. Есть правые, есть левые, есть патриоты, есть антипатриоты. Все хотят печататься… Есть и организации, и группы, и группировочки, и одиночки вне организаций. И выпивание водяры очень активное.
– А чем закусывают?
– У нас дешевая закуска. Боря Камянов не станет салом закусывать, а я могу и салом. Поеду в магазин, куплю шматок, нарежу – хорошо! И это никакой никому не вызов, просто мне так нравится.
– Дина Рубина, Губерман, Феликс Кривин, Канович, Светлана Шенбрунн – эти писатели весьма уважаемы и популярны в России… Есть ли у вас тут общие журналы или альманахи?
– Самый главный альманах такого рода – это «Иерусалимский журнал». Встречаемся реже, чем хотелось бы… В Иерусалиме еще иногда собираются вокруг «Иерусалимского журнала», и это – кайф, а тут, в Тель-Авиве, почти не видимся. В Союз писателей редко кто ходит… Да и это все – только пока мы живы.
– Мне говорили, что ты хочешь собрать воспоминания о твоем брате Симоне. Так?
– Игорь Бяльский выпустит
специальный номер «Иерусалимского журнала», посвященный Симону. Там будут и его тексты, и о нем. Что касается книжки, посвященной Симону, то я вот что хочу сделать: человек пишет 5-6-7 страниц (сколько хочет) об одной встрече. А к этим страничкам подверстывается одно или два письма Симона, адресованные этому человеку. Только-только начинаю работу…Таких людей, которые сохранили тягу к эпистолярному жанру, немного. Все съел телефон. Вот и я с ним почти не переписывался: говорили по телефону и виделись очень часто. Я сам писем почти не пишу. А Симон писал. Он только в последний год стал компьютер осваивать… А так – пишущая машинка. У него был колоссальной красоты «Ундервуд» из какой-то германской канцелярии.
– Симон разделял твои взгляды на еврейский вопрос?
– Стоял очень близко.
– Почему многие евреи не хотят жить в Израиле?
– На мой взгляд, потому что евреи хотят жить хорошо материально. Евреи в России, они – что? Либо они занимаются культурой, либо торговлей. Маленький бизнес. Торговля воздухом. Козьими копытами. Покупаем свечки – продаем колбасу. Есть знаменитый анекдот. Идет корабль из Америки в Израиль. И встречает другой корабль, который идет из Израиля в Америку. И там, и там на палубе стоит по еврею. Один другому (и наоборот) вот так показывает – крутит пальцем у виска. Дескать, ты сумасшедший.
Вся история еврейства в том, что евреи все время куда-то едут. Мы сами знаем за собой эту национальную черту. У нас есть такой религиозно-этический закон, не обязательный, разумеется, к исполнению: если еврей приехал в Израиль, уехать отсюда он уже не может, потому что ему здесь хорошо и замечательно по определению. Но есть две причины, по которым еврей все же может ехать из Израиля на все четыре стороны: совершенствоваться в знании Священных Книг и зарабатывать деньги, если их не хватает на хлеб в родных пределах. Всё. А если есть у тебя занятие и деньги, то сиди на месте.
…А вообще, многие евреи тут жить побаиваются: опасно, арабы взрывают. Есть на земле места и потише. Так пусть будет скучно!
– Как ты относишься – теперь уже со стороны – к краху Советского Союза? Как это повлияло на литературу?
– Я думаю, что крушение Империи – самое значительное событие ХХ века. Более значительное, чем война. И чем 17 год. Это было неизбежно. Нет вечных империй. Но никто из нас не верил, что мы доживем до этого дня. Никто – в том числе и Амальрик. Кто говорит, что верил, врет. И за это надо благодарить тех, кого коммунисты хотят судить.
Реванш невозможен. Может быть, нечто другое, не менее страшное, но не такое. При всех издержках… А без издержек империи никогда не разрушались.
На мой взгляд, самое большое несчастье, которое существует в сегодняшней России, это то, что выдавалось за огромное счастье при коммунистах, а именно – многонациональность. В России живет около ста народов. Как было, так и есть. Сепаратизм неизбежен. Сегодня Кавказ, завтра татары… Это зеленый пояс – снизу доверху. Русские люди говорят: «Ну и что? Живут же французы как во Франции, так и в Швейцарии, и ни в чем себе не отказывают». Но русские – не швейцарцы, а Казань – не Париж.
– А будет ли восстановление культурных связей?
– Думаю, что да. Культура идет вровень с торговлей, может, даже на полкорпуса впереди.
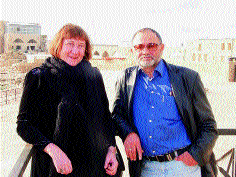
Татьяна Бек и Давид Маркиш.
– Как ты полагаешь, что провоцирует порой даже лучших русских людей на безобразность антисимитизма?
– У меня такое ощущение (об этом много говорили), что эти люди на фоне русских неприятностей хотят иметь образ врага. Искать его наверху, во властях, опасно и не принято.
Теперь евреев заменил Кавказ. Но Кавказ не занимает такого места в русской культуре, поэтому в левой интеллигенции к Кавказу неприязнь все же меньше, чем к евреям. А евреи всех, дескать, стремятся редактировать… Астафьев в «Царь-рыбе» показал, как русский человек съел медведя, сожравшего, в свою очередь, лучшего друга этого русского человека. Дикая история и ужасная... Если бы этого медведя съел еврей, то евреи бы на ушах стояли… Астафьев одинаково нелицеприятно писал и о русских, и о евреях, и о грузинах, – жестоко. И о поляках… Он был такой мизантроп. Но от этого он, как и Достоевский, не стал писать хуже. Лучше – может быть.
А вообще, не нравятся евреи – не общайтесь. Никто никого не обязан любить. Ситуация, как правило, обостряется дураками. Она должна быть сбалансирована. Евреи всю свою жизнь говорят: «Здесь нас любят, а там нас не любят». Так не бывает. Это демагогия. Мужик может любить бабу или наоборот. Но чтобы народ любил народ… Сами такие разговоры бессмысленны и вредны, они ведут к хамству и к войне.
Антисемитизм есть омерзительное социально-политическое явление. Точка. Но любовь к евреям – почему? Потому, что я еврей? Это дико, к тому же в этом нет моей заслуги. Потому что мы дали Библию? Но я ее не писал.
Я не думаю, что мы, евреи, – это избранный народ. Я думаю, что евреи – это народ избравший. Это разные вещи. Нет, ребятки, вы перепутали, когда Б-г шептал вам что-то в ухо. Или передернули.
Вы избрали Единого Б-га – и это великое дело.
Март 2004. Тель-Авив. Кофейня в поле.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru