[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2004 АВ 5764 – 8 (148)
ВОСПЕВШИЙ ИОВА
Марк Харитонов
Илья Янкелевич Габай (1935–1973) пользовался особым уважением среди правозащитников. Для всех, кто его знал, он был нравственным авторитетом. Поэт Давид Самойлов назвал его «праведником», скульптор Вадим Сидур написал о нем: «святой Илья». Память о нем хранится в сердцах многих. Но, думается, больше любых слов, любых воспоминаний может рассказать об этом замечательном человеке его поэзия.

В самом начале нашего знакомства, году в 1957-м, я по умонастроению Габая сразу решил, что он из семьи репрессированных. В ту пору у многих моих приятелей обнаружилась эта скрываемая прежде тайна. Возможно, поступить с предосудительной анкетой в педагогический институт было проще, нежели в университет или технический вуз, возможно, знакомства складывались по неосознаваемому отбору; меня поразило, сколько их оказалось.
Когда я спросил об этом Илью, он смутился, точно ему не по праву приписали заслугу. Нет, родители его просто давно умерли; одним из смутных воспоминаний было – как на похоронах отца он засмеялся непонятному еврейскому речитативу кантора.
От бакинских родственников Габая я услышал потом, что отец его был бухгалтером, удивлявшим своими математическими способностями: без всякого образования он решал сложные алгебраические задачи. Сын этих способностей явно не унаследовал, он был скорее в деда, непрактичного мудреца и знатока Талмуда.
Я впервые увидел его родственников в январе 1974 года, когда мы, двое друзей, вместе с вдовой и сыном Габая приехали в Баку хоронить урну с его прахом – через два с лишним месяца после тягостной панихиды в крематории. Что-то жутковато-непозволительное было в повторении обряда: человека надо хоронить только один раз. Но такова была его воля: он сам назначил это место.
Родственники рассказывали некоторые эпизоды этого сиротского детства: как Илья ходил получать по карточкам хлеб и редко доносил его домой в целости – раздавал по пути нищим и попрошайкам; как сестра, с которой он жил, однажды утром, проснувшись, не смогла поднять голову с подушки: волосы примерзли к стене. Я долго не знал одного обстоятельства: на какой-то срок он был отдан родственниками в детский дом, хотя, по его словам, они в состоянии были прокормить его.
Как рассказать о родичах моих
За давностью бестрепетно и просто?..
Куда больней привычного сиротства
Я ощутил немудрость их сердец.
Милые, добродушные, гостеприимные люди, встречавшие нас в Баку, – наверное, речь шла не о них, о ком-то старше; да и в том ли дело? Речь шла о ранних болевых ощущениях, запечатлевшихся на всю жизнь, отпечатавшихся на личности и характере.
О, как хвастливой был вконец задразнен
Я добротой, унизившей меня!
Повзрослев, он больше всего не позволял унижать себя ни добротой, ни чем бы то ни было. При его постоянном безденежье не всем и не всегда просто было всучить ему трешку или хотя бы угостить обедом. Он убедительно отнекивался, уверял, что недавно ел. Потом, бывало, выйдешь с ним на улицу, а он заторопит: «Скорей куда-нибудь пожрать. Подыхаю от голода».



Иллюстрации В. Сидура к книге И. Габая «Посох».
С этим переплетено было многое, прежде всего обостренное чувство независимости и достоинства. То не было вольное и легкое чувство аристократического равенства со всеми, для этого слишком оно было напряженным – скорее, плебейская, разночинная гордость, родственная комплексу неполноценности. С годами самосознание уточнялось, формируя точный и строгий кодекс чести. Но это свойство порождало особую чувствительность не только к своему, а и к чужому достоинству, унижению, беззащитности. Я не встречал человека, который воспринимал бы это так остро, как Габай. Он подавал милостыню всегда, буквально выворачивал карманы – не перед нищим даже, встречным пьянчугой-попрошайкой. В поэме «Книга Иова» он отвечал неназванному оппоненту:
Так ль слово «жалость» –
скверный тон?
Так ль уж постыдно
слово «милость»?
Вы их превыше, ваша милость,
Я – ниже! И стою на том!
«Стою на том» означало осознанную и подтвержденную позицию; но основой всех его душевных движений и поступков было непосредственное чувство, порыв, начинавшийся до осмысления и доводов.
Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жи
ла во мне щемящей сердце болью, –
писал он в юношеском стихотворении «Чужое горе» (1957); и в этих строках – нравственная основа всей его дальнейшей жизни, всей общественной его активности. Здесь словно заклинание от душевной глухоты и слепоты. Для него незаживающим укором совести была память о том, что совершалось рядом и на что у него открылись глаза непозволительно, не по возрасту запоздало:
Своей беды нам ворон не накличет,
Беда других – ничтожна и мала...
Наверно, от такого безразличья
И повелись преступные дела.
Благостным он при этом отнюдь не был – слишком навидался изнанки жизни: в армии, в колонии для несовершеннолетних, где работал воспитателем, в глухой деревне, где несколько лет учительствовал; о позднем тюремном и лагерном опыте не говорю. Он не был домашним сентиментальным мечтателем. Это был сильный человек; я бы не назвал его и физически слабым, хотя он был начисто чужд спортивных добродетелей.
Многие его стихи вдохновлены Библией, но не Евангелиями, а Ветхим Заветом, где мало кротости и смирения, где все в гари, смуте и душевной скорби, в величественном порыве, где чтится более дух воинственный.
Нищего жалеют не за рвань:
За то, что он не борется, а просит, –
писал он в «Еврейских мелодиях».
В 1963 году мы затеяли сочинять с ним совместный роман; каждый в рамках общего сюжета должен был вести свою «партию», своих героев. В этом незаконченном, а вернее сказать, ненаписанном романе есть «малоназидательная сказочка», принадлежащая перу Габая.
«Человек некий вообразил себя богоборцем, предстал он перед светлыя очи и сказал: “Б-г, тебя нет, и я тебя знать не знаю”. – “Недосуг мне, – сказал Г-сподь, – некогда мне с тобой валандаться, и вообще время у нас сейчас такое, умеренное. Валяй, богоборствуй”. И пошел Человек, и стал кричать: “Б-га нет, он мне сам об этом сказал”... Так витийствовал он некоторое время и с платы за собрания построил себе рай не рай, но уютную-таки жизнь. И очень эта уютная жизнь тяготила Человека... Чем пуще он гневил Б-га, тем лучше ему жилось на земле. И взмолился он: “Накажи меня, покарай, а то люди на меня пальцами показывают, что я со своего богоборчества, со своей богоненависти себе жизнь хорошую устроил”. – “Вот уж это – хрен тебе, – так сказал Б-г, – это уж ты у меня не проси. Я вас, блудных, хорошо знаю... Все вы блудите с твердым расчетом на тельца, всем вам, блудным, для успокоения совести вашей, суетной и тщеславной, страдания нужны и испытания, в рубище походить хочется... А ты у меня не страданием, а жиром помучаешься, не жертвой, а жратвой будешь обставлять свои исступления... Шиш тебя в конце ожидает вот такой, и, кроме шиша, нечего тебе будет вспомнить”»...
Стихи его – своего рода свод противоречивых раздумий, вопросов, которые на разный лад задает себе в наше время и в наших условиях душа совестливого и мыслящего человека. Но ответа они не дают. Меньше всего его поэзия способна дать уверенность и основу для самоутверждения. И все же она служит уверенности, показывая читателю, что он не один в своих сомнениях и поисках. Она расшатывает самодовольство, половинчатую мудрость. Счет его к самому себе труден: соразмерял ли он посильность своей ноши?

И. Габай с друзьями. 1964 год.
Я сам свой Б-г. Но слабый,
вздорный Б-г,
Издерганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Б-г – любить такого Б-га.
И быть, как он, – не приведи Вас Б-г...
Но божьего величия – карать
Не пожелаю ближнему: не смею
Желать ему таких шахсей-вахсеев.
Не дай вам Б-г – как Б-г себя карать.
Язык своих стихов сам Габай называл «косноязычным»:
Язык псалмов, пророчеств, притчей,
Язык мессий, язык заик.
Он не пренебрегал художественным совершенством, но знал, что человек, которому надо выкрикнуть что-то жизненно важное, меньше всего станет заботиться о выверенной интонации, или удачном сочетании эпитетов. Наверное, такое отношение к поэзии действительно связано с определенной духовной традицией – традицией пророков, людей, которые не занимались «литературным трудом», а жили неотделимо от своих слов, и слова эти были самовыражением, но не самореализацией профессионалов:
Не светлые и робкие стихи,
А боговдохновенные призывы.
Они жгли сердца – разжигая от своего собственного. Они размышляли, предостерегали, звали, обличали, скорбели, переливая душу в дымящиеся строки:
Потому что смысла в слове нет,
А правда только в стоне,
крике, кличе.
Такую душевную слитность со своим словом-стоном нельзя долго вынести безболезненно. Профессиональное самосохранение требует некоторой отчужденности от материала; искусство всегда немного игра, полагающаяся на мастерство и технику, – не может же актер умирать вместе со своим героем. Речь пророка была не игра и не работа с поэтическим материалом, а смертельно серьезная жизнь людей великой страсти.
Осенью 1971 года я писал ему в лагерь, где он отбывал заключение, о некоторых мыслях на эту тему, вызванных одной появившейся в ту пору статьей С. Аверинцева. Мне казалось применимым к стихам Габая проведенное этим выдающимся филологом последовательное сопоставление «литературы» в классически-греческом понимании и ближневосточной, прежде всего библейской традиции. Литература, «связанная с жизнью», самим этим сочетанием противопоставлялась жизни как самозаконная и самоценная форма человеческой деятельности. Она допускала и требовала рефлексии над своими специфическими результатами в виде поэтики, теории литературы, критики. Библейская поэзия была чужда профессиональной самооценке. Она пребывала внутри жизни и создавалась людьми, которые по своему общественному самоопределению не были литераторами и не заботились сознательно о создании литературного шедевра, о том, чтобы запечатлеть мир и себя со стороны, объективно, для будущего. Здесь нет дистанции между «я» и «не я», стихия боли захватывает и автора, и читателя, превращая их не в слушателей или зрителей, но в соучастников, и самому Б-гу свойственно не просто эпическое милосердие, но «чревная» материнская жалость.

Листовка в защиту И. Габая и других правозащитников, распространявшаяся в Москве в январе 1970 года.
В противопоставлении этом нет оценки: что выше, что ниже; условность термина «литература» применительно именно к греческой традиции вовсе не отлучает традицию иную от литературы в более широком понимании. Мне казалось даже, что это близко подходу самого Габая к своим стихам. Не помню, в каких выражениях я высказал все это в тогдашнем письме. Вероятно, неточность слов или разная настроенность мысли вызвали непонимание – в письмах, где нет возможности, как в разговоре, тотчас уточнить сказанное, это случалось нередко; но я был изрядно озадачен суровой отповедью, которую получил в ответ. Видимо, сопоставление мое задело его за живое больше и иначе, нежели я мог предполагать. «Вы только отчасти правы, услышав в моем письме голос рассерженного человека», – полушутливой цитатой смягчал он впоследствии свои слова; но в первый момент ему все-таки почудилась в моих (по Аверинцеву) размышлениях попытка объявить “нелитературой” кровно близкое ему.
«В самом деле, почему речи Демосфена или Цицерона – литература, а речи Исайи или Иеремии – нет? Потому что Исайя не набирал камней в рот?.. Наиболее убедительное место у Аверинцева – о дилетантах, пропускающих у Гомера описательную часть. Я, конечно, меньше, чем дилетант; может быть, в оригинале это действительно перлы поэзии, но мне кажется описание щита или хозяйства малолитературным: так, метафорическим, окололитературным источником по истории материальной культуры. И наоборот, событийный ряд, об интересе к которому Аверинцев отзывается пренебрежительно, глубоко интересен, так как он содержит исконный намек на “почву и судьбу” и на характеры. Гекуба, Пенелопа, Гектор, Парис, Аякс – это все-таки, вопреки умному и парадоксальному утверждению Аверинцева, и есть главное (для дилетантов, конечно, для дилетантов; но мы все действительно в гимназиях не учились и в древнегреческом не сильны). Как и Юдифь, Самсон с Далилой, Иосиф, Моисей и Аарон и пр... Обращенность к духовному, внутренняя ассоциативность Библии куда современнее (и “литературнее”) гомеровских поэм». Греческая традиция, утверждал он дальше, оказала больше влияния на живопись, скульптуру, архитектуру, чем на литературу. «Исключение – драматургия, самая сильная сторона греческой литературы», где звучит «исконное ощущение человеком своего трагического, потерянного существования. У иудеев не было поэтики; может, это их сила: известно, чем могут стать каноны Аристотеля – Буало – эстетических отношений к действительности... Словом, по-моему, ты неправильно понял “нелитературность” библейской традиции; я уверен, что, вопреки изученному в школе, она куда сильнее, чем хрестоматийная греческая традиция: не случайно же Достоевского неплохо читать параллельно с Библией... Если... иудейскую “нелитературность” ты распространяешь на все, мною написанное, то это очень грустно – для моих стихов, разумеется».
В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи – и заново открывшегося слуха впервые коснулась пророческая их пронзительность.
Я ощутил до богооткровенья,
Что я погиб. Что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут.
Это написано за пять с лишним лет до гибели, но лишь после нее прозвучало вдруг во всей подлинности, обнаженности. Исповедь и объяснение, горестное, скорбное… «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят правеж безжалостность и жадность, ложь и вошь» – слова, многими произносимые в худую минуту искренне и все же риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.
О. Мандельштам говорит о смерти художника как о «телеологической причине», высшем акте его творчества, как о последнем, заключительном звене в цепи его творческих достижений. Не знаю, ко всем ли можно отнести эти слова, но я вспоминаю их, когда думаю о судьбе и творчестве Габая.
Как немыслим был для него разрыв, зазор между стихами и жизнью, так не оказалось его между стихами и смертью. В марте 1971 года он писал мне из кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах – определенная квинтэссенция помыслов».
Стихи всегда о главном для него, а по сути единственном: о трагическом самоощущении человека, душа которого воспринимает, как свои, все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в разорванном, невоссоединимом мире.
Значит, должен я выискать место
В этом крошеве местей и свар?
По какому наитью? Родства?
Но, сударыня, что за родство
С задохнувшейся речью пророка
У ублюдка, не пасшего стад?
Значит, должен я выискать место?
По какому наитию? Чести?
Но откуда ж мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?
Человек, написавший это, был одним из зачинателей и самых активных деятелей движения, которое в 60 годы стало называться «демократическим», а потом правозащитным. Он не принадлежал к прирожденным, умелым бойцам, уверенно, хоть и с риском, нацеленным на победу; у них своя честь. И своя – у тех, кто предчувствует, что в столкновении с властью людей, не претендующих на власть, нет победы, кроме моральной. Возможно, это не более трагично, чем жить, заведомо предвидя смерть. Но рождаться нам или нет, мы не выбираем. Впрочем, может, и нравственный императив, а с ним и жизненный выбор определен человеческим устройством больше, чем мы думаем, – когда человек чувствует, что просто не может иначе:
Но ты отмечен свыше: ты помечен
Обязанностью к действиям вотще.
Чем были бы мы без таких людей?
Впервые его задержали в КГБ «для беседы» в связи с намечавшейся демонстрацией 1966 года. Когда органы, изрядно встревоженные, позаботились ее предотвратить, Габай пошел на Красную площадь один. В январе следующего года он принял участие в еще одной демонстрации на Пушкинской площади против очередных арестов и введения новой статьи Уголовного кодекса (наказание «за распространение клеветнических сведений» и т.д. – той самой, по которой его потом и осудили). Вскоре после демонстрации он был арестован, просидел несколько месяцев под следствием, на первый раз был выпущен.
– Но я все равно сяду, – сказал он мне как-то с усмешкой. – Уж больно мы с советской властью не сходимся.
В январе 1968-го появилось ставшее скоро широко известным его вместе с Кимом и Якиром обращение к интеллигенции. Основа, насколько я знаю, была написана Габаем – его стиль угадывается. Появлялись его публицистические работы, издавались с его участием «Хроники» правозащитного движения, составлялись письма и обращения, приезжали из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он занимался их делами.
19 мая 1969-го его арестовали последний раз, в январе 1970-го осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.
Лагерь обернулся для Габая испытанием страшнее, чем для многих других. «Общий» режим, считаясь легче «особого», вынуждал жить не среди политических, где были возможны хоть какие-то отношения, солидарность, а среди уголовников, блатных. Можно только представить, что это могло значить для еврея, не сильного физически, с обнаженными нервами – только вообразить в этих условиях органическую его бескорыстность, полнейшее нежелание и неспособность выгадывать житейские блага, простую невозможность для него хотя бы припрятать от жадных глаз доставшийся в передаче кусок. Да много чего еще. Он признавался в поэме «Выбранные места», которую написал там,
Что испытанье пагубой и порчей,
Проверка униженьем и стыдом
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.
Да и вернувшись потом, рассказывал о пережитом предельно сдержанно, и лишь намеками проступали иногда страшные эпизоды блатных расправ, лагерного ужаса и унижений. Все главное выплеснулось в стихах:
Я не сумею вам раскрыть воочью
В такой ночи – такое чувство ночи
Кромешной: это чувство нелюдей.
Что делать мне? Какая даль или близь
В каком краю предстанут мне защитой?
Так нету сил! (И где мой утешитель?)
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)
Поэму «Выбранные места» он частями пересылал мне из лагеря в письмах, а затем полностью передал с женой, записав во время свидания на вырванных из книг титульных листах (другой бумаги с чистым пространством для письма не оставалось).
Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью:
Memento mori. Помни о конце.
Тягостное состояние усиливалось к завершению срока. Можно только вообразить, как он при тогдашних своих нервах считал оставшиеся дни и что значило для него, когда за два месяца до конца, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по новому делу.
Это был рассчитанный ход изощренных тюремных психологов.
Похоже на дурную притчу: во время одного из переездов – на следствие или со следствия – Габай услышал разговор крымского татарина, своего подельника, о том, что вообще-то русских и евреев надо бить, что мир спасет ислам и что арабам надо скорее покончить с Израилем. Илья потом рассказывал про это с усмешкой, спокойно – он мог предполагать нечто подобное.
А знали же, знали, что преданность
наша без прока,
Что мы предавались стихами,
главой и крестом
Не очень-то нашей, но прожитой
нами эпохе.
Новое, высокое понимание, созревшее за мучительные годы лагеря, не отменяло прежнего. Он пробивался к нему, сохраняя противоречивую цельность, с постоянной оглядкой: не означает ли это понимание «предательства вчерашнему себе», от которого он остерегал себя еще в «Книге Иова». Собственные стихи стояли на страже: стихи-обет, стихи-напоминание, стихи-укор; из строк глядел на него требовательный, полный последней надежды взгляд самого Б-га, обращающего свою горестную мольбу к Иову:
Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных льстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!
От него, ослабленного мучительным ожиданием, неизвестностью о судьбе близких, угрозами, собственными раздумьями, ждали, видно, формального раскаянья и отречения; для этого сделано было, казалось, все. Добиться удалось гораздо меньшего: обязательства воздерживаться впредь от общественной активности. С тем его пока и выпустили в мае 1972-го.
При встрече в первые минуты он показался мне на удивление не изменившимся – даже волосы отросли за время следствия; только разве что более худой, чем обычно, какой-то миниатюрно тонкий – но и это стало привычным через полчаса. А речь, шутки, интонации – до иллюзии те же, как будто вчера лишь расстались. В дверь звонили, намерение уберечь Илью в этот день от утомительных встреч сразу пошло насмарку – он сам был, казалось, в прекрасной форме, только ощущения немного притуплены, все воспринималось словно сквозь легкое головокружение.
– Мне кажется, я вижу сон, – сказал он. – Я думал, что половины из вас уже не встречу. Так угрожающе со мной говорили.
И только на фотографии, прикрепленной к документу об освобождении, он был совсем на себя не похож (так неузнаваем потом был он в гробу). Возможно, фотообъектив выявил то, чего в первый момент не разглядели мы: это был уже потрясенный человек.
Потянулись месяцы неустроенности, поисков работы, безденежья, домашних трудностей и допросов. Удалось устроить ему путевку в дом отдыха на Каспийском море; тогда-то он впервые за много лет побывал в Баку и навестил могилы родителей. Жить приходилось на зарплату жены, кое-что подкидывали друзья; иногда удавалось достать работу, чаще оформленную на чужое имя. Положение было тягостным, неопределенным. Уже начинала поторапливать с трудоустройством милиция. Нигде его не брали. Сотрудники КГБ, одно время обещавшие ему помочь, разводили руками, удивляясь трусости отделов кадров (как им было не удивляться!); наконец, подыскали место корректора в газетной редакции. Утомительное механическое чтение мелкого шрифта при его зрении и нервах сказывалось болезненно, он приходил с работы разбитый, и это вплеталось в общую подавленность и бесперспективность.
Особенно тяжким ударом оказался для Габая арест Якира и Красина. Снова пошли вызовы, допросы. Илье предъявляли показания, которые эти близкие ему прежде люди давали против него, требовали новых признаний. Как всегда, он подтверждал лишь то, что было связано с ним лично, отказываясь говорить о других.
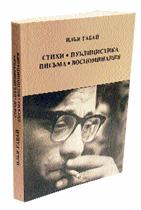
Зимой Габай был уже тяжело болен; грипп вызвал серьезные осложнения. Бессонница, усталость, депрессия. Знакомый врач объяснял впоследствии, что надо было сразу поместить его в стационар; но кому бы достало смелости заговорить о психиатрической больнице? Пока он глотал таблетки, прописанные другим знакомым. Вроде бы помогало; все могло бы еще поправиться, дай ему жизнь хоть немного покоя.
Между тем его дожимали. Вызовы и допросы становились все чаще, все суровее и жестче: требовали фамилий, полной «откровенности» в показаниях, формального раскаяния по уже опробованному образцу.
Однажды спросили:
– Вы не собираетесь уехать за границу?
Он ответил:
– Мне бы не хотелось. Но здесь я не вижу никаких возможностей.
– Держать вас не будем, – намекнули ему.
У него давно уже лежал вызов от мнимых израильских родственников, он продлевал срок его действия, но пользоваться им не хотел. Этот некровожадный способ избавляться от неудобных людей был опробован и по-настоящему пущен в ход, когда Илья был еще в лагере. Я писал ему о нашем общем знакомом, который одним из первых использовал этот путь. (Человек, кстати, был вполне русский и даже с антисемитскими заскоками.) Илья отвечал: «Трудно поверить, чтобы он мог когда-нибудь кровно воспринимать сионские боли. Я тоже, наверное, не смог бы – а без этого как же жить там?»
И это говорил автор «Еврейских мелодий», автор «Зарубабеля» и «Книги Иова»! Подобной проблемы не существовало не только для тех, кто возвращался на историческую родину из чужеземного рассеяния, но и для сотен тысяч других, кто уже, ощутив возможность, начинал рваться за какую угодно границу, лишь бы вырваться из советского существования, и кто теперь живет по всему миру, с сочувственным недоумением оглядываясь на оставшихся.
Но дело-то в том, что для такого человека, как Габай, речь могла идти не о благополучии и безмятежности, а о подлинности существования, об отказе от каких-то насущных жизненных ценностей без убежденности в обретении новых. Не для всех, но для определенного типа людей эмиграция – то есть не просто переезд в другую страну, естественный для людей в нормальном мире, а отъезд вынужденный – это все-таки отчасти поражение, перелом жизни, катастрофа.
Тем более тогда, в начале семидесятых, когда заграница была для большинства – и вовсе не для тех, кто верил советской пропаганде, – чем-то совершенно неизвестным, чужим. Отъезд представлялся чем-то окончательным, непоправимым; слово «Запад» обретало тот же смысл, что для библейского Иосифа: это был Египет, то есть царство мертвых, куда уходили безвозвратно.
За день до смерти он сказал жене, что все-таки решился уехать. Порой мне кажется, что отъезд оказался бы вариантом отсрочки. Он метался, он был болен и слаб, воля его была подточена. Однажды обрадовал меня, сказав, что пробует писать, конспектирует библейскую «Книгу Иова» для продолжения своей поэмы. Потом я видел эти выписки; очень жаль, что сейчас ими не располагаю – их характер мог бы много сказать о тогдашнем его умонастроении. О, теперь-то, после пережитого, – как мог бы он написать Иова! Если бы дело было только за душевным опытом! Дальше выписок не пошло.
Последние месяцы его вызывали на допросы еженедельно, по четвергам – надо было его дожать. Раскаяние Якира и Красина не дало рассчитанного эффекта; требовался успех более впечатляющий. Возвращаясь, он неизменно рассказывал об этих беседах; речь шла о многих людях, и им надо было об этом знать. Но есть основания думать, что, щадя близких, он кое-что утаивал; угрозы наверняка относились не только к нему, но прежде всего к его жене – опасность была вполне реальной.
В последний перед смертью четверг его не вызывали: можно предположить, что ему был дан срок на какое-то неведомое нам решение. Они все же перестарались; есть свидетельства, как они были всполошены его самоубийством, – боялись, что нагорит за брак в работе? Робот в запрограммированной игре не соразмерил хватки с уязвимостью живого человека.
В предсмертной записке он просил друзей и близких простить все его вины: «У меня не осталось ни сил, ни надежды». Сам почерк записки и то, как он позаботился положить рядом с ней очки, подтверждают, что все совершалось в ясном разумении.
А время каменеет, и у фраз
Нет свойства передать из дальней
дали,
Что люди жили, мучились,
страдали,
А не свершали действа напоказ.
Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви, в иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети – верующие разных исповеданий убедили священнослужителей забыть о недозволенности отпевать самоубийцу.
На Еврейском кладбище в Баку на могиле Ильи Габая установлен памятник работы великого скульптора Вадима Сидура.

Рельеф на надгробном памятнике И. Габаю работы В. Сидура.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru