[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2004 ТИШРЕЙ 5765 – 10 (150)
ДЫША И БОЛЬШЕВЕЯ
Бенедикт Сарнов
В предыдущем отрывке я приводил покаянный монолог Юрия Олеши о его отношении к музыке Шостаковича. А закончил отрывок рассуждением о том, какого давления не вынес Мандельштам.
Так вот, тот душераздирающий покаянный монолог Олеши дает нам химически чистый, не замутненный никакими посторонними примесями пример воздействия этого мистического давления.
Олеша не испытал никаких репрессий. Ни тюрьмы, ни ссылки (даже такой сравнительно мягкой, как ссылка Мандельштама в Воронеж). Больше того: никакому прямому, никакому персональному нажиму он не подвергался. Он сам, без чьей бы то ни было подсказки ощутил, что статьей «Правды» о музыке Шостаковича страна (вся страна, со всеми своими заводами, машинами, армией и флотом) посягает на вторжение в самые интимные области его подсознания, что она не может позволить ему, говоря словами Оруэлла «ни малейшего уклона мысли, каким бы сокровенным и безвредным этот уклон ни был».
Операция, которую самостоятельно и притом совершенно добровольно произвел над собой писатель Юрий Олеша, в своем роде не уступает той, которую проделали над героем романа «1984» в порожденном мрачной фантазией Оруэлла Министерстве Любви.
«Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть, потому что все части, все детали этой картины связаны, возникают одна из другой, и ни одна не может быть порочной.
И с этих позиций я начинаю думать о музыке Шостаковича. Как и прежде, она мне продолжает нравиться. Но я вспоминаю: в некоторых местах она всегда казалась мне какой-то пренебрежительной. К кому пренебрежительной? Ко мне.
Этот человек очень одарен, очень обособлен и замкнут.
Внешне гений может проявляться двояко: в лучезарности, как у Моцарта, и в пренебрежительной замкнутости, как у Шостаковича. Эта пренебрежительность к “черни” и рождает некоторые особенности музыки Шостаковича – те неясности, причуды, которые нужны только ему и которые принижают нас.
Вот причуды, которые рождаются из пренебрежительности, названы в “Правде” сумбуром и кривлянием...»
Героя романа Оруэлла оперировали изощреннейшие специалисты, понаторевшие в операциях такого рода. Олеша прооперировал себя сам. Он сам, своею собственной рукой отрезал и беспощадно выкинул в мусорную корзину живой, кровоточащий кусок собственной души. И надо прямо сказать, он справился с этой задачей гораздо лучше, чем если бы он доверил эту операцию кому-нибудь другому. Сознание, что он вырезает у себя злокачественную опухоль, от которой могут быть метастазы, – этот страх остаться больным, не излечиться до конца от своей ужасной болезни побудил его быть особенно добросовестным и захватить скальпелем немалое пространство здоровой ткани. Во всяком случае той ткани, которую заподозрить в затронутости болезнью мог только он и никто другой.
Вот, например, как ему быть с Джойсом? Со своим острым художническим интересом к этому писателю? Самому себе он не раз признавался, что ощущает гениальность этого художника, что Горький для него (сам Горький!!!) «формально менее интересен, чем Джойс». У Джойса встречаются порой совершенно поразительные метафоры. А он, Юрий Олеша, не раз говорил, что метафора – это единственное, что остается от искусства в веках. Правильно ли это?
Казалось бы, при чем тут Джойс? О Джойсе в статье «Правды» – ни слова. Пока речь идет только о Шостаковиче.
Нет, он не станет заниматься этим недостойным самообманом. Он знает: Джойс тут очень даже при чем. Джойс сложен, элитарен, а следовательно, пренебрежителен к черни уж никак не меньше, чем Шостакович. Значит, рано или поздно обязательно дойдет дело и до Джойса. Если он не расправится с Джойсом сейчас, потом ему будет это сделать гораздо труднее. Нет уж, лучше заблаговременно вырезать и этот кусок зараженной ткани.
«Художник должен говорить человеку: “Да, да, да”, а Джойс говорит: “Нет, нет, нет”. Все плохо на земле, – говорит Джойс. И поэтому вся его гениальность для меня не нужна... Я приведу пример из Джойса. Этот писатель сказал: “Сыр – это труп молока”. Вот, товарищи, как страшно. Писатель Запада увидел смерть молока. Сказал, что молоко может быть мертвым. Хорошо это сказано? Хорошо. Это сказано правильно, но мы не хотим такой правильности. Мы хотим художественной диалектической правды. А с точки зрения этой правды молоко никогда не может быть трупом, оно течет из груди матери в уста ребенка, и поэтому оно бессмертно».
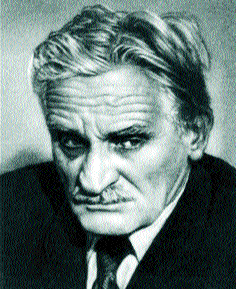
Юрий Олеша: «Если я в чем-нибудь не соглашусь со страной, то вся картина жизни должна для меня потускнеть...»
Олеша и не думает скрывать, что метафора Джойса его восхищает своей поразительной точностью. Не скрывает он и того, что мир, из которого вдруг исчезли бы метафоры, представляется ему самым страшным из кошмаров, какой он только способен вообразить. И вот он утешает себя тем, что метафоры останутся. В конце концов, – успокаивает он себя, – ведь фраза Сталина об «экспорте революции» – это тоже метафора! Задача, таким образом, заключается не в том, чтобы научиться жить совсем без метафор (это было бы слишком ужасно!), а всего лишь в том, чтобы разлюбить одни метафоры и полюбить другие.
Вот какая сложная была проделана работа. И вот что самое интересное: в отличие от ситуации, придуманной Оруэллом, в реальной жизни оказалось, что палачу вовсе не нужно было быть умным, проницательным, всезнающим. Интеллигент сам выдумал своего палача, усложнил его, наделил несуществующими свойствами. Интеллигент сам убедил себя в том, что палач что-то знает. Он уверил себя, что палач знает нечто такое, что ему, интеллигенту, неведомо и недоступно.
«Глубоко и упорно думал о Сталине; как художник – впервые», – потрясенно признавался Пастернак. И испытал непреодолимую потребность встретиться со Сталиным и поговорить с ним «о жизни и смерти».
Зачем это ему понадобилось? Что нового мог сообщить питомцу Марбургского университета, ученику Когена человек, который развлекался плясками под баян и украшал стены своего кабинета цветными фотографиями, вырезанными из «Огонька»?
Предполагалось, что этот человек может сообщить интеллигенту очень много нового и интересного, потому что он знает главное, потому что ему ведом «смысл философии всей».
А интеллигента хлебом не корми, только укажи ему какого-нибудь ублюдка, который научит его – как жить. Особенно, если упомянутый ублюдок будет сделан из какого-то другого, не интеллигентского теста.
Удивительная это черта у интеллигентов – искать смысл жизни где угодно, только не в своих интеллигентских занятиях.
Впрочем, странность эта возникла не зря, она имела свои основания.
* * *
Интеллигент всегда сознавал свою неспособность устроить жизнь. Интеллигент способен только размышлять о жизни, думать о ней, сомневаться, колебаться, взвешивать, искать. А устраивают жизнь, организуют ее, как правило, – другие, не обремененные ни лишними знаниями, ни грузом сомнений, но наделенные зато энергией, силой, деловой практической хваткой. И надо ли удивляться, что они устраивают жизнь по образу и подобию своему. И жизнь в результате оказывается устроена так, что интеллигенту в ней нет места.
Интеллигенту, разумеется, очень хотелось бы, чтобы талант устроителя жизни, эта деловая практическая хватка сочеталась с высокой жизнью духа, с остротой ума и мягкостью души. Недаром Гончаров, осудив своего Обломова за неспособность участвовать в устройстве жизни, наделил его антипода Штольца всеми лучшими чертами, свойственными прекрасной обломовской душе. Штольц и умен, и образован, и добр, и тонко чувствует музыку, и любит живопись. Одна беда. Откуда взять таких Штольцев?
Осознав свою неспособность принять участие в устройстве жизни, интеллигент стал заниматься самоосуждением. С гневной иронией, с презрением и даже ненавистью стал он вглядываться в наиболее характерные черты своей интеллигентской натуры.
Сперва предполагалось, что осуждению подлежит не интеллигент как таковой, но лишь определенный тип интеллигента.
Осуждению подлежал тип Гамлета.
С наибольшей отчетливостью и ясностью эту концепцию выразил Тургенев в своей знаменитой речи о Гамлете и Дон Кихоте. О характерных свойствах гамлетовской натуры, о склонности его к анализу, о его постоянном стремлении представить себе последствия, а значит – смысл каждого своего шага, Тургенев говорит с таким несправедливым запальчивым уничижением, что просто диву даешься.
«Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. С Гамлетом ничего подобного случиться не может: ему ли, с его проницательным, тонким, скептическим умом, ему ли впасть в такую грубую ошибку! Нет, он не будет сражаться с ветряными мельницами, он не верит в великанов... Но он бы и не напал на них, если бы они точно существовали».
Тургенев искренно полагал, что он лишь противопоставляет два разных типа интеллигента, что речь идет о том, интеллигенту какого типа следует отдать предпочтение.
А между тем речь шла о другом, и выбор был уже сделан. Речь шла об отказе интеллигента от главного своего достояния – стремления к истине.
То обстоятельство, что Дон Кихот в отличие от Гамлета вовсе не занят поисками истины, Тургенева ничуть не смущало. Это не казалось ему таким существенным.

И.С. Тургенев: «Кто знает? Может быть, и истины тоже нет, так же, как великанов?»
«Кто знает? Может быть, и истины тоже нет, так же как великанов?.. Кто из нас может, добросовестно вопросив себя, свои прошедшие, свои настоящие убеждения, кто решится утверждать, что он всегда и во всяком случае различит и различал цирюльничий оловянный таз от волшебного золотого шлема?.. Потому нам кажется, что главное дело в искренности и силе самого убежденья... а результат – в руке судеб. Они одни могут показать нам, с призраками ли мы боролись, с действительными ли врагами, и каким оружием покрыли мы наши головы... Наше дело вооружиться и бороться».
Интеллигенты приняли эту прекрасную программу. Они следовали ей долго и упорно. Они боролись не щадя сил. Они пролили моря крови, не помышляя об истине, доверяясь только собственной искренности, силе и прочности своих убеждений. И надо ли удивляться, что они не нашли в себе сил сойти с этой кровавой колеи, когда оказалось, что впереди – вместо верного великому идеалу безумного Рыцаря Печального Образа – в роли их вождя и учителя оказался совсем другой персонаж.
Этот другой персонаж интеллигентам сперва не понравился. Но поскольку он вел их по тому самому пути, который, как это было им доподлинно известно, обязательно должен был привести их в землю обетованную, интеллигенты решили, что они во что бы то ни стало должны победить свою ни на чем не основанную антипатию.
Интеллигенты новой эпохи не имели уже никаких иллюзий насчет тех, кто прочно взял в свои руки дело устройства жизни по новому, идеальному образцу.
Андрей Бабичев у Юрия Олеши, в отличие от гончаровского Штольца, не испытывает ни малейшей потребности ни в музыке, ни в стихах, ни в цветах, ни в листьях. В его душе нет и тени нежности и любви. Да и вообще, можно ли с уверенностью сказать, что у него есть душа – у этого, как сказали бы мы сегодня, кибера, у этого бесчувственного думающего устройства.
Кавалеров, о котором Олеша честно сказал «он смотрел на мир моими глазами» , ненавидит и презирает Андрея Петровича Бабичева всеми силами своей души. Но однажды Андрей Петрович взял с собой Кавалерова на аэродром, где должен был состояться взлет советского аэроплана новой конструкции. Кавалеров слегка зазевался, и часовой перед самым его носом закрыл калитку, ведущую на взлетное поле.
«Военный сказал “нельзя” и положил руку на верхнее ребро калитки. – Как это? – спросил я.
Он отвернулся. Его глаза устремились туда, где разворачивались интересные события...
– Пропустите меня, товарищ! – повторил я, тронув военного за рукав, и в ответ услышал:
– Я вас удалю с аэродрома.
– Но я же там был. Я только на минуту уходил. Я с Бабичевым!..
Конечно, меня никак бы не огорчило, если бы я и не попал на поле. И здесь, за барьером, было отличное место для наблюдения. Но я настаивал. Нечто более значительное, чем просто желание видеть все вблизи, заставило меня полезть на стену. Я вдруг ясно осознал свою непринадлежность к тем, которых созвали ради большого и важного дела, полную ненужность моего присутствия среди них, оторванность от всего большого, что делали эти люди, – здесь ли, на поле, или где-либо в других местах».
Сцена эта глубоко символична.
Интеллигенту, при всей его антипатии к тем, кто творит «большое и важное дело», мучительно, нестерпимо сознание своей оторванности от них, непринадлежности к ним, непричастности к «тому большому», что они делают.
Книга называется «Зависть».
Кавалеров завидует Андрею Петровичу Бабичеву. Но зависть эта не так уж мелка, как это может показаться с первого взгляда.
Кавалеров завидует не льготам, не привилегиям, не тому, что Андрей Петрович Бабичев находится «у власти», получает большую зарплату и т.п. Он завидует тому, что Андрей Петрович Бабичев в отличие от него, Кавалерова, «творит большое и важное дело».
«Большое дело», которое творит Андрей Петрович Бабичев, – это строительство гигантского пищевого комбината, гигантской фабрики-кухни под названием «Четвертак». Это будет нечто неслыханное, не имеющее никаких аналогов. Сверкающий чистотой автомат, выдающий вкусные, дешевые, питательные, калорийные обеды.
«Колбасник!» – кричит в раздражении Кавалеров Андрею Петровичу Бабичеву. Это не метафора. Андрей Петрович действительно колбасник. Он сияет при виде нового сорта колбасы. Самая большая мечта его жизни – наладить производство такой колбасы, которая была бы дешевле, вкусней и питательней всех колбас мира.
А Кавалеров – поэт. Как бы ни был он жалок, смешон, даже ничтожен, все-таки ведь не зря именно ему Олеша подарил свое удивительное зрение, редкую способность глубоко и тонко чувствовать мир.
Поэт и колбасник. Зачем они противопоставлены друг другу? Разве поэт может конкурировать с колбасником? Завидовать ему?
У колбасника – свое дело в жизни. (Очень почтенное, кстати говоря.) А у поэта – свое. Они живут в разных сферах, в разных плоскостях, в разных измерениях. Как могло случиться, что их пути пересеклись?
Случилось это потому, что Андрей Петрович Бабичев строил не просто фабрику-кухню, не просто столовую-автомат, где чисто и дешево должны были готовиться вкусные и питательные обеды. Он строил хрустальный дворец, о котором веками мечтали люди. Он строил то самое здание, о котором говорил Иван Карамазов своему брату Алеше.
«Представь, что ты... возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях?»
Алеша, как известно, ответил на этот вопрос отрицательно. Но мир стоит не на Алешах Карамазовых.
Архитектор нашелся. И строительство началось. И в фундамент строящегося здания пролились моря детских слез и океаны человеческой крови.
«Завистью» Юрия Олеши старый проклятый вопрос Достоевского формулировался уже гораздо скромнее. Он формулировался так:
– Представь, что ты возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале – не осчастливить людей, нет, это тебе не дано, – всего лишь накормить их. Накормить всех голодных, всех нуждающихся. Но для этого надо отказаться от способности чувствовать и понимать природу, испытывать жалость, нежность, любовь. Иначе говоря, надо убить поэзию. Согласился бы ты быть архитектором на этих условиях?
В ту пору, когда Олеша писал свою «Зависть», такая постановка вопроса была очень актуальной. Тогда еще казалось, что на этих условиях здание безусловно построят. Убив поэзию, человечество, конечно, не осчастливят, но накормить-то накормят. Это уж точно!
Итак, на одной чаше весов – горсточка интеллигентов со своими тонкими чувствами. А на другой – миллионы голодных, каждый из которых может получить по бифштексу.
Вот почему пересеклись пути поэта и колбасника. Вот почему интеллигент пришел к деловитым и бездушным строителям «Четвертака», к этим в худшем случае ненавистным, в лучшем – совершенно чужим ему людям. Пришел с единственной целью – сказать им: «Я – ваш!»
* * *
Очень наглядно изобразил в одном из своих рассказов эту коллизию Михаил Зощенко.
«К партизанам пришел пожилой человек, по облику похожий на какого-то интеллигента старинной формации. Длинные волосы и борода подчеркивали это сходство. Недоставало лишь старомодного пенсне со шнурком. Впрочем, именно такое пенсне и оказалось у него в кармане...
Партизаны отвели его к комиссару отряда, и тот стал допрашивать его... Оказалось, что он пенсионер, инвалид, экономист по образованию Константин Сергеевич Х.
– С какой же целью вы явились к нам? – спросил его комиссар.
– Я пришел поговорить с вами, – ответил Х. – Поговорить обо всем, что я передумал за эти военные годы.
Комиссар с удивлением посмотрел на него, сказал:
– Ну, знаете, для этого у меня нет ни времени, ни охоты.
– Но это очень важно для меня, – с волнением сказал профессор. – Я прошу у вас об этом как о драгоценном даре.
Профессор говорил витиевато, непросто, приподнятым тоном. Комиссар не без досады глядел на этого старомодного человека, выкинутого военной бурей на поверхность жизни.
Волнуясь и дергаясь, профессор сказал комиссару: – Я пришел сказать вам о своем духовном и моральном перерождении. У меня нет больше колебаний и нет больше сомнений. Я теперь целиком ваш...»
Рассказ кончается так:
«В землянку вошел радист. Это был молодой человек – студент третьего курса института связи Виктор Р. Он пришел с улицы. Пришел в одной гимнастерке, в высоких сапогах, без фуражки. Сияние молодости и здоровья освещало его спокойное лицо, чуть тронутое легким румянцем.
– Радиограмма, – сказал радист, подавая комиссару листок бумаги. – Прикажете подождать ответа?
– Присядьте, Виктор Николаевич, – сказал комиссар радисту. – Сейчас напишу ответ.
Комиссар стал писать. На минуту задумался. Рассеянно взглянул на радиста. Потом перевел взгляд на профессора... Какой поразительный контраст. Два мира перед ним. Старый, ушедший мир, и новый – спокойный, уверенный в своих силах, точно знающий, что надо делать для того, чтоб жить.
Комиссар окликнул профессора, глаза которого были сомкнуты:
– Ну, а в своей молодости, профессор, вы же не были таким, как сейчас?
Х. открыл глаза. Кротко взглянул на комиссара. Сказал:
– В молодости? Нет, пожалуй, это был наиболее трудный период в моей жизни – молодость. Хотелось для себя решить вопрос о смысле жизни, об отношении к смерти...
Радист с удивлением посмотрел на профессора. Отвернулся, желая скрыть улыбку, которая пробежала по его губам. Сказал, обращаясь к комиссару:
– Такие вопросы, товарищ комиссар, мы практически разрешаем на фронте и в тылу».
Казалось бы, Зощенко демонстративно избегает резких контрастов. Профессор, пришедший к партизанам, сталкивается не с темными бородатыми дедами, а с людьми вполне подкованными. Специально оговорено, что молодой радист – студент 3-го курса института связи. И радист, и комиссар говорят вполне литературным, гладким, «интеллигентным» языком (а это не так уж характерно для персонажей Зощенко).
Автор как бы специально подчеркивает: интеллигент старой формации пришел к интеллигентам же, но – нового типа. И тем поразительнее, тем страшнее возникающий контраст. Автор предусмотрел решительно все, чтобы у нас не возникло никаких ложных предположений о природе этого контраста. Словно бы нарочно для того, чтобы мы не думали, будто контраст обусловлен столкновением представителя гуманитарной интеллигенции с представителем интеллигенции технической, сказано, что профессор по образованию экономист (а не художник, не поэт, не артист). Специально оговорено, что дело не в разнице возрастной: профессор и в молодости был непохож на четкого, подтянутого радиста.
Собеседники говорят на одном языке, но они органически неспособны понять друг друга. Один говорит, задумчиво глядя вдаль:
– Хотелось решить для себя вопрос о смысле жизни, об отношении к смерти...
Другой бодро отвечает:
– Такие вопросы мы практически разрешаем на фронте и в тылу...
Тут поражает странное совпадение. Коллизия, изображенная в рассказе Зощенко, с поразительной, почти текстуальной точностью воспроизводит известный нам телефонный разговор Пастернака со Сталиным.
Так же, как зощенковский профессор, Пастернак выразил желание поговорить со Сталиным «о жизни и смерти». И точь-в-точь так же, как зощенковский комиссар, Сталин дал понять Пастернаку, что у него нет для таких разговоров ни времени, ни охоты. И уж совсем точь-в-точь так же, как зощенковский радист, Сталин мог бы недоумевающе отреагировать: «Такие вопросы мы практически разрешаем на фронте и в тылу». Зощенко, быть может, и знал о разговоре Пастернака со Сталиным, но вряд ли он сознательно хотел пародировать этот разговор в своем рассказе. Пародия эта непреднамеренна. Но, в известном смысле, она и не случайна.
Зощенко изобразил интеллигента, готового прийти к саламандре, жаждущего вступить с саламандрой в духовный контакт, получить от нее руководящие указания по поводу того, как жить.
Насколько глубок и точен его рассказ, можно судить хотя бы по тому факту, что на Западе многие рафинированные интеллигенты с искреннейшей симпатией и сочувствием относились к деятельности хунвейбинов, возглавляемых Мао, вообще к маоизму.
Возможность такого парадокса еще в тридцатые годы предвидел Чапек. В его романе «Война с саламандрами» интеллигент по имени Вольф Мейнерт приходит к выводу, что люди должны добровольно уступить место саламандрам, что только саламандрам дано утвердить на нашей планете счастье, создать цивилизацию, свободную от тех трагических заблуждений и уродств, которых не смогла избежать цивилизация людей. Чапек так объясняет это странное завихрение:
«Вольф Мейнерт – интеллигент. Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью такого средства возродить мир?»
Если даже западный интеллигент удостоился такой ужасающей характеристики, так что уж тогда говорить о русском интеллигенте, далеко обогнавшем на этом безумном пути мещанский, филистерский, сытый и самодовольный Запад.

Карел Чапек: «Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью такого средства возродить мир?»
* * *
В учебниках истории, по которым мы учились, говорилось, что Ленин открыл советы, открыл советскую власть как высшую форму демократии, неизмеримо более истинную, нежели буржуазный парламентаризм.
Эта ленинская мысль пала на исключительно благодатную почву.
Лживую буржуазную демократию в России на дух не принимали люди, которым идеи Ленина и его соратников были совсем не близки.
Вот в высшей степени характерная запись из дневников Блока:
«Почему “учредилка”? Потому что – как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может быть за меня? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми прогремели все их американцы и французы).
Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, белая), свое кладбище – маленькое. На это – Ольденбург: великая культура может быть только в великом государстве. Так было всегда. О, это было, было, проклятая историческая инерция. А должно ли так быть всегда?..
Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. Потому, что рано или поздно некий Милюков произнесет: “Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством”.
Это ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояле (бл... буржуазная), и все кончено...
Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?
Если бы это – банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это – интеллигенция!
Или и духовные ценности – буржуазны? Ваши – да.
Но “государство” (ваши учредилки) – не все.
Есть еще воздух.
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня:
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!..»
(А. Блок. Собр. соч. в 8-и томах. Т. 8. М.-Л., 1963. С. 315)

Н.Я. Мандельштам: «Ему хотелось отчетливого построения общества, “лестницы Иакова”, как он выразился в статье о Чаадаеве...»
В этой неприязни к западным формам, к буржуазной пошлости, к готовности принять всё, любой хаос, любой мрак, только бы не сытое, пошлое буржуазное благополучие, Блок дошел до предела. Он выразил это чувство острее, сильнее, безогляднее, горячее, чем кто бы то ни было. Но в этом своем безумии он был не одинок.
Примерно так же рассуждали тогда многие куда более спокойные, сдержанные, хладнокровные люди.
Вот что писал почти в это же время (3 апреля 1919 года) Владислав Ходасевич.
«Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых и прочую “демократическую” погань. Дайте им волю – они “учредят” республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков, все-таки умел забывать все на свете “средь вин, сластей и аромат”. Думаю, что Гавриил Романович мужиков в Званке дирал, а все-таки с небес в голосах раздавался. Но Россию, покрытую бюстом Жанны Гренье, Россию, “облагороженную” “демократической возможностью” прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, – ненавижу, как могу».
(В. Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. Литература и
власть. Письма Б.А. Садовскому. М., 1966. С. 362)
Русский интеллигент – радикал или консерватор, славянофил или западник – всегда был твердо убежден, что мы во всем пойдем дальше Запада. Именно мы укажем этим прогнившим западным демократиям новый, истинный путь.
Надо сказать, что иногда в этом традиционном русском мессианизме брезжило предчувствие, что эта самая «огневая стихия» может вместо неслыханной демократии, указывающей путь всему миру, обернуться неслыханным деспотизмом. Но даже и это предчувствие русского интеллигента не обескураживало, не сбивало с тех привычных позиций, на которых он так прочно утвердился.
Мандельштам тоже отдал дань настроениям этого рода.
«Девятнадцатый век отталкивал его бедностью, даже убожеством социальной архитектуры... В демократиях Запада, высмеянных еще Герценом, О.М. не находил гармонии и величия, к которым стремился.
Ему хотелось отчетливого построения общества, “лестницы Иакова”, как он выразился в статье о Чаадаеве и в “Шуме времени”. Эту “лестницу Иакова” он почувствовал в организации католической церкви и в марксизме, которыми увлекался одновременно еще школьником... И в католичестве и в марксизме он почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку. В Киеве в 19 году он как-то сказал мне, что лучшее социальное устройство мерещится ему чем-то вроде теократии. Именно поэтому его не отталкивала идея авторитета, обернувшаяся диктаторской властью».
(Н. Мандельштам. Воспоминания)
Лишь много лет спустя, понюхав как следует, чем пахнет эта самая «идея авторитета», Мандельштам изменил свое суждение о бедности и убожестве социальной архитектуры ХIХ века и еще Герценом высмеянных западных демократиях, заметив, что именно ХIХ век, по-видимому, и был настоящим золотым веком, но «мы этого не знали».
Они не желали этого знать. Само предположение это было им отвратительно. Оно оскорбляло их эстетическое чувство, их жажду гармонии:
«...не ужасно ли, не обидно ли было думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?..
Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!..»
(К. Леонтьев. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 373)


Константин Леонтьев: «Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!..»
Не случайно туманный призрак автора этих строк вдруг материализовался в сознании Мандельштама зимой 1920-1921 годов.
«Это была суровая и прекрасная зима... Последняя страдная зима Советской России, и я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью».
Вот в эту самую страдную, суровую и прекрасную зиму, когда Петроград словно вмерз в лед, и возник вдруг перед ним этот материализовавшийся призрак.
«Ночь. Злится литератор-разночинец в не по чину барственной шубе. Ба! Да это старый знакомец! Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Леонтьева приложенный портрет: в меховой шапке-митре – колючий зверь, первосвященник мороза и государства. Власть и мороз. Тысячелетний возраст государства. Теория скрипит на морозе полозьями извозчичьих санок. Холодно тебе, Византия? Зябнет и злится писатель-разночинец в не по чину барственной шубе...
Если мне померещился Константин Леонтьев, орущий извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них.
Ему бы крикнуть: “Эх, хорошо, славный у нас век!” – вроде как: “Сухой выдался денек!” Да не тут-то было! Язык липнет к гортани. Стужа обжигает горло, и хозяйский окрик по столетию замерзает столбиком ртути.
Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство “непомерной стужи”, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, пышущая льдом...
И, в этот зимний период русской истории,.. с трепетом приподымаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя».
(Шум времени. 1923)
Когда еще, как не в ту лютую зиму, было явиться этому призраку «первосвященника мороза и государства». Ведь это он, Леонтьев, мечтал «подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила». Подморозить, чтобы остановить, задержать либерально-эгалитарный прогресс хотя бы ценой величайших жертв, хотя бы даже самым мрачным насилием.
Мир зашел в тупик. На Европу надеяться не приходится. Вся надежда только на Россию, в которой уже начавшийся процесс гниения, быть может, еще удастся остановить.
Такова была историософия этого оригинальнейшего из русских мыслителей.
Другие мыслители, не столь оригинальные, не думали, что Россию надо подморозить. Иные из них даже наоборот хотели как можно скорее ее «подогреть», «растопить». Но и они тоже искренно полагали, что именно Россия имеет шанс спасти мир и что преимущество России перед Европою именно в том, что она так долго была «заморожена».
«Мы уже ненавидели все петербургское, когда fiasko Европы, после 1848, довершило воспитание; мы на нее взглянули с той же беспощадностью. И тогда только поняли вполне, что за безобразное государство Российская империя и что за счастье, что оно такое безобразное государство!
Не думайте, чтоб это была игра слов».
(А. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 14. М., 1958. С. 45)
Это ни в коем случае не было игрой слов. Это была продуманная, законченная историософская концепция.
«Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза, в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем опасном плавании – у нас это искусственный балласт, за борт его – и на всех парусах в широкое море!..
...Новый мир можно только творить из хаоса. А старый мир еще крепок, иным нравится, другие привыкли к нему...
У бедуина есть своя почва, своя палатка, у него есть свой быт, он воротится к нему, он отдохнет в нем. У еврея – у этого первозданного изгнанника, у этого допотопного эмигранта – есть кивот, на котором почиет его вера, во имя которого он примиряется с своим бытом. Русский беднее бедуина, беднее еврея – у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило. Может, в этом-то и лежит зародыш его революционного призвания... Мы свободны, потому что начинаем с самих себя... Русские законы начинаются с оскорбительной истины – “царь приказал” и ограничиваются диким “быть по сему”. А ваши указы носят в заголовках двоедушную ложь – громовой республиканский девиз и имя французского народа. Свод законов точно так же направлен против человека, как свод Наполеона, но мы знаем, что наш свод скверен, а вы не знаете этого. Довольно носим мы цепей насильно, чтоб прибавлять еще добровольные путы...
Россия никогда не будет juste-milieun. Она не восстанет только для того, чтобы отделаться от царя Николая и получить в награду представителей-царей, судей-императоров, полицию-деспотов».
(А. Герцен. Указ. собр. соч. Т. 5. М., 1955. С. 220, 223)

А.И. Герцен: «Русский беднее бедуина, беднее еврея – у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило».
Константин Леонтьев, Герцен, Ленин, Блок, Мандельштам...
Казалось бы, ну что общего может быть у столь разных людей?
Общим был тот чисто русский максимализм, о котором говорил Бердяев в связи с моральной проповедью Толстого. Вот этот самый русский мессианизм, эта русская гордыня: «РОССИЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ JUSTE-MILIEUN !» (Довольствоваться золотой серединой).
Говоря, что европейский корабль несет в своих трюмах слишком много драгоценного груза, которым нет сил пожертвовать, а у нас, мол, это все искусственный балласт, от которого мы готовы избавиться, Герцен вряд ли представлял себе, как далеко готов зайти русский интеллигент в этой своей готовности выкинуть за борт все лишнее. Вернее, как далеко готов он пойти в пересмотре всех привычных представлений о том, где проходит граница между лишним и необходимым.
* * *
Литературовед, заметивший, что антисталинское стихотворение Мандельштама представляло собой «выход непосредственно в биографию, даже в политическое действие» и что в этом проявилась «тяга к внеэстетическим сферам, устойчиво свойственная Мандельштаму», выразил этим своим замечанием традиционно западное представление о роли и месте художника в мире.
«Художнику, поэту легко прожить всю жизнь предметом поклонения современников, потому что он – “нечто особое” между людьми, и произведения его не имеют прямого отношения к действительной жизни... Наоборот, этик, проповедник нравственных идеалов, должен быть гоним, иначе он плохой этик».
(С. Кьеркегор. Из дневников. 1833 – 1855)
В России это всегда было иначе. У нас в первых рядах гонимых неизменно оказывались именно поэты. И происходило это именно потому, что пресловутая «тяга к внеэстетическим сферам» была свойственна не одному Мандельштаму, а едва ли не всем сколько-нибудь известным русским художникам.
Но дело даже и не в особом складе души русского художника, а в самом типе российского интеллигента.
«Величие, ценность, благодеяние нашей французской культуры состоит в том, что она, если можно так выразиться, бескорыстна. Образ мыслей, которому она учит, истины, которые она провозглашает, не носят узко регионального характера, а потому и нет нужды опасаться, что, усвоенные соседним народом, они обратятся против нас. Эти истины принадлежат всем, находят отклик у самых различных народов; люди учатся благодаря им познавать самих себя, понимают свою сопричастность друг другу, и, значит, эти истины служат не разобщению и вражде, но соглашению и миру.
Спешу прибавить к этому то, что представляется мне особенно важным: французская литература в целом отнюдь не следует какой-то определенной линии. Вспоминается забавная реплика мадам Севинье: “Я вовсе не придерживаюсь своего мнения...” Вам дают понять, что автор всегда оставляет за собой право безжалостной критики по отношению к самому себе».
(А. Жид. Осенние листья. 1949)
Русский интеллигент не просто «придерживается своего мнения». Все, что лежит за пределами этого самого «своего мнения», для него просто-напросто не существует. И люди, проповедующие или хотя бы даже просто исповедующие иные мнения, ему глубоко отвратительны. Он не желает иметь с этими ненавистными ему людьми ничего общего!
– Я жид и с филистимлянином за стол не сяду! – отрезал однажды Ленин в ответ на миролюбивую фразу какого-то махиста.
Принято думать, что источником этой яростной нетерпимости был марксизм. (Или «бланкизм».) Между тем, вождь русских большевиков в данном случае просто процитировал Белинского.
– Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу, – сказал однажды великий критик.
И, действительно, не ел.
«Раз приходит он обедать к одному литератору на страстной неделе, подают постные блюда.
– Давно ли, – спрашивает он, – вы сделались так богомольны?
– Мы едим, – отвечает литератор, – постное просто-напросто для людей.
– Для людей? – спросил Белинский и побледнел. – Для людей? – повторил он и бросил свое место. – Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты, всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет людей!»
(А. Герцен. Былое и думы)
Русский интеллигент, уж если он не то что проповедует, а всего лишь исповедует какую-то идею, почитает своим непререкаемым долгом следовать ей во всех жизненных ситуациях. Суровое правило это не терпит исключений. Даже малейший разрыв между образом мысли и образом жизни воспринимается им как величайшая подлость.
Русский интеллигент Белинский убежден в своей моральной правоте, и русский интеллигент Герцен всей душой разделяет эту его убежденность. Мысль, что бедный хозяин дома провинился не так уж сильно, не может прийти им в голову, потому что сознание их не терпит ни малейшего несоответствия между «теорией» и «практикой».
Европейский интеллигент (будь он не то что марксист, а хоть бы и сам Маркс) в сходной ситуации ведет себя совершенно иначе.
«Прежде чем окончательно определить Ваши отношения с Лаурой, мне необходимо иметь полную ясность о Вашем материальном положении... Я не ставил этого вопроса, так как, по моему мнению, проявить инициативу в этом отношении следовало Вам... Те сведения, которых я не искал, но которые получил помимо своего желания, вовсе не успокоительны... Наблюдение убедило меня в том, что Вы по природе не труженик, несмотря на приступы лихорадочной активности и добрую волю. В этих условиях Вы будете нуждаться в поддержке со стороны, чтобы начать жизнь с моей дочерью. Что касается Вашей семьи, о ней я ничего не знаю. Предположим, что она обладает известным достатком, это не свидетельствует еще о готовности с ее стороны нести жертвы ради Вас. Я не знаю даже, какими глазами она смотрит на проектируемый Вами брак. Мне необходимы, повторяю, положительные разъяснения по всем этим пунктам...
Чтобы предупредить всякое ложное истолкование этого письма, заявляю Вам, что если бы Вы захотели вступить в брак сегодня же, – этого не случилось бы. Моя дочь отказала бы Вам. Я лично протестовал бы...
Я хотел бы, чтобы это письмо осталось тайной между нами двумя.
Ваш Карл Маркс».
(Письмо Маркса Полю Лафаргу. Лондон, 13 августа 1866 г.)
В теории Маркс, как известно, был коммунистом, следовательно, последовательным сторонником женской эмансипации, может быть, даже – защитником свободной любви. Во всяком случае, он был сторонником полной независимости любящих друг друга мужчины и женщины от золотых цепей низменных материальных интересов, от всех этих мерзостей пошлого буржуазного брака (условий о приданом, о материальной обеспеченности будущих молодых супругов и проч.). На практике же, когда дело шло о предполагаемом замужестве его любимой дочери, он, как видим, повел себя совершенно иначе. Не погнушался даже потребовать от жениха «разъяснений по всем пунктам», в том числе и насчет того, обладает ли его семья «известным достатком» и готова ли она нести ради него какие-либо материальные жертвы. Он даже счел нужным предупредить влюбленного юношу (в самом начале того же письма), что если тот окажется «не в силах проявлять свою любовь в форме, соответствующей лондонскому меридиану», ему придется «покориться необходимости любить на расстоянии».
Легко можно себе представить, сколько крику было бы, окажись на месте Поля Лафарга наш неистовый Виссарион.
– Где тут ваши последователи? Все эти так называемые коммунисты, интернационалисты, марксисты? – задрожав и смертельно побледнев, воскликнул бы он. – Пустите меня к ним! Я скажу им, что они обмануты! Я скажу им, что их кумир – самый обыкновенный, самый пошлый буржуазный филистер, раб чистогана! На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами!
Говоря, что европейский корабль несет в своих трюмах слишком много драгоценного груза, которым нет сил пожертвовать, а у нас, мол, это все искусственный балласт, от которого мы готовы избавиться, Герцен вряд ли представлял себе, как далеко готов зайти русский интеллигент в этой своей готовности выкинуть за борт все лишнее. Вернее, как далеко готов он пойти в пересмотре всех привычных представлений о том, где проходит граница между лишним и необходимым.
«Любопытно: когда мы ели суп, Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: “Нисколько. До войны я был брезглив. После войны – ничего”. В моем представлении это как-то слилось с “Двенадцатью”. Не написал бы “Двенадцать”, если бы был брезглив».
(К. Чуковский. Дневник. 1901 – 1929. М., 1991. С. 114).
Естественным образом этот моральный (да и не только моральный – всякий) максимализм стал сопрягаться в сознании российского интеллигента с его пониманием (восприятием) большевизма.
«На каком-то заседании – у меня в руках английский журнал, и там я увидел статью о переводе “Двенадцати” Блока – под заглавием: “A Bolshevik Poem”. Я показал Блоку статью. Он усмехнулся.
И потом – разговор о большевизме.
– Большевизма и революции – нет ни в Москве, ни в Петербурге. Большевизм – настоящий, русский, набожный – где-то в глуши России, может быть, в деревне. Да, наверное, там...»
(Е. Замятин. Воспоминания о Блоке. В кн.: Евгений Замятин. Я боюсь. М., 1999. С. 121)
Речь шла, как вы понимаете, не об идеологии. Идеология тут вообще ни при чем.
Вот, скажем, Михаил Зощенко. Он сам признавался, что всегда был бесконечно далек от исповедования каких-либо определенных политических или философских доктрин:
«Какая, скажите, может быть у меня “точная идеология”, если ни одна партия в целом меня не привлекает?
С точки зрения людей партийных, я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-ер, не монархист, я просто русский. И к тому же – политически безнравственный.
Честное слово даю – не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик. Но эс-ер он или кадет – не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.
Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так...
Ну, а еще точней? Еще точней – пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен. Да и кому быть большевиком, как не мне? Я “в Б-га не верю”. Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...
Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути. Но я не коммунист... и думаю, что никогда им не буду».
(М. Зощенко. О себе, об идеологии и еще кое о чем. Литературные записки. 1922, № 3)
Зощенко не ошибся, предрекая, что многие на него за это очень обидятся. И в самом деле, обиделись сильно. Не обиделись только те, кто не придал этим его высказываниям серьезного значения, решив, что все это – обычное ёрничество, обычная маска, которую он напяливает на себя во всех случаях жизни. Но ёрничеством тут и не пахнет. Скорее наоборот. В этом признании чувствуется подлинная искренность и какая-то глубокая серьезность. Вот хотя бы эта фраза о Пушкине, которого он не перестанет любить, даже если точно узнает, к какой именно партии принадлежит Гучков.

М.М. Зощенко: «Какая, скажите, может быть у меня “точная идеология”, если ни одна партия в целом меня не привлекает?»
Но если все это сказано не для красного словца, не для эпатажа, а совершенно искренно и всерьез, то какая же, черт возьми, каша в голове у человека!
«Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы...» И тут же: «Россию люблю мужицкую». Не Россию интеллигентов, стало быть, а Россию тех самых людей, которые как раз и ходят в церковь Параскевы Пятницы, чтобы молиться там раскрашенной картине. «Кому быть большевиком, как не мне?» И тут же: «Но я не коммунист... и думаю, что никогда им не буду». Не знает он, что ли, что большевики и коммунисты – это одно и то же? И почему он решил, что если любит Россию мужицкую, так ему по пути с большевиками? Тем, кто любил мужицкую, то есть крестьянскую Россию, скорее было по пути с эсерами...
Это уж даже не «каша в голове», а прямо безумие какое-то! И, однако, есть в этом безумии, как говорит шекспировский Полоний, своя система. Во всяком случае – своя логика.
Утверждая, что он большевик и «большевичить» согласен, хотя и не считает себя коммунистом, Зощенко был не оригинален:
«Нет никакого интернацьёнала, а есть народная русская революция, бунт – и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича. “А Карла Марксов?” – спрашивают. – Немец, говорю, а стало быть, дурак. – А Ленин? – Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы, должно, коммунисты...»
Это говорит один из героев романа Бориса Пильняка «Голый год».
А вот – из «Несвоевременных мыслей» Горького.
«Когда я сказал кондуктору трамвая, что социалисты борются за равенство всех народов, он возразил:
– Плевать нам на социалистов, социализм – это господская выдумка, а мы рабочие-большевики...»
Кондуктор трамвая, конечно, не Б-г весть какой авторитет. Но то-то и дело, что совершенно так же, как этот кондуктор, поняла и приняла это слово чуть ли не вся Россия.
Вот, например, Сергей Есенин, этот «последний поэт деревни», готовый «отдать всю душу Октябрю и Маю», но с одним только единственным условием: чтобы не отобрали у него, сохранили ему его «милую лиру». Стал бы разве он называть себя социалистом? Коммунистом? Марксистом? («Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал...») А большевиком – пожалуйста! С дорогой душой.
Небо – как колокол,
Месяц – язык,
Мать моя – родина,
Я – большевик.
Вот и ему тоже показалось, что с большевиками ему по пути. Вот и он тоже согласен с ними «большевичить».
«Большевичить» – это значит во всем дойти до конца, до последнего предела, захватить как можно больше в своем отталкивании от прошлого, от старой, прежней жизни.
Не раз задавались у нас таким простым вопросом: что было бы, если бы на втором съезде РСДРП в 1903 году сторонники Ленина получили хоть на один голос меньше, чем сторонники Мартова? Ведь тогда – страшно подумать! – ленинцы назывались бы меньшевиками, а большевиками стали бы называться мартовцы.
Но почему, собственно, страшно подумать? Казалось бы, не все ли равно? Дело ведь не в названии, а в программе... Так-то оно так. Но не исключено, что случайно возникшее название крайней левой фракции русских социал-демократов было далеко не последней в ряду причин, приведших эту, сперва такую малочисленную группу к власти.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, –
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
– У-у-у!
Сила!
(Маяковский)
Природное языковое чутье не обмануло поэта.
В народном сознании слово «большевик» слилось в своем значении со старым русским словом «большак».
«БОЛЬШИЙ, БОЛЬШАК, БОЛЬШИНА (м.), БОЛЬШАЯ, БОЛЬШУХА, БОЛЬШИХА, БОЛЬШИЦА, БОЛЬШАЧИХА (ж.) – старший в доме, хозяин и хозяйка, старшина в семье; вообще набольший в общине или артели; нарядчик, распорядитель, указчик...»
(В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка)
Иными словами, «большаки» – это те, кому власть принадлежит по праву, подлинные, законные хозяева (У-у-у! Сила!). С другой стороны (это уже в сознании народолюбивого русского интеллигента), большевики – те, кто как можно больше хотят дать народу, больше сделать для народа. Наконец, это те, кто представляет интересы большинства, выражает мнение большинства. «Положим, мне вся эта вакханалия не совсем по душе, – размышлял совестливый русский интеллигент. – Но ведь все это творится не для меня, а для них, для большинства. Пусть мне даже станет хуже, пусть я проиграю от всех этих перемен. Но разве счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста? Важно, чтобы на этом выгадало большинство народа!»
Строчку Мандельштама «Я должен жить, дыша и большевея» Надежда Яковлевна в «Книге третьей» комментирует так.
«О. М. как-то тихонько сказал мне, что в победе в 17 году сыграло роль удачное имя – большевики – талантливо найденное слово. И главное, на большинстве в один голос... В этом слове для народного слуха – положительный звук: сам-большой, большой человек, большак, то есть столбовая дорога. “Большеветь” – почти что умнеть, становиться большим...»

В.Г. Белинский: «Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу!»
Конечно, человеку, не отягощенному знаниями (скажем, тому же кондуктору трамвая), легче отделить понятие «коммунист» (социалист, марксист) от понятия «большевик». Интеллигенту это сделать труднее. Но вот интеллигент Зощенко отделял же: «Кому быть большевиком, как не мне?.. Но я не коммунист...».
Отделял и Мандельштам.
Надежда Яковлевна в своих воспоминаниях рассказывает, что чекист, арестовывавший Мандельштама, был поражен отсутствием среди их книг марксистской литературы.
«А где вы держите своих классиков марксизма?» – спросил он.
Осип Эмильевич, расслышавший этот вопрос, шепнул жене: «Он в первый раз забирает человека, у которого нет Маркса».
К тому времени, когда Мандельштама «забирали», его увлечение марксизмом было уже делом далекого прошлого. Однако, как свидетельствует та же Надежда Яковлевна, в юности его «большевизм» (максимализм, неприязнь к западным демократиям, стремление увидеть наилучшее социальное устройство «в чем-то вроде теократии») опирался на острый интерес к марксизму. Признание, что ХIХ век, некогда отвращавший его «убожеством социальной архитектуры», – это и есть истинный золотой век, было, таким образом, связано с разочарованием в марксизме.
Да, в марксизме, в котором он некогда «почуял организационную идею, связывающую в целое всю постройку», Мандельштам разочаровался давно. Но из этого еще вовсе не следует, что он разочаровался в «большевизме» – этом исконном свойстве русского народного и интеллигентского сознания.
«Я должен жить, дыша и большевея...» – это было сказано с полной искренностью. Всерьез.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru