[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2006 ТИШРЕЙ 5767 – 10 (174)
ЧЕЛОВЕК АЛОХИ В СОВЕТСКОМ ЗАСТЕНКЕ
Михаил Горелик
«В ночь на среду 15 сивана 5687 года[1] от сотворения мира» в квартиру шестого Любавичского Ребе – Йосефа-Ицхока Шнеерсона (1880–1950) позвонили. В его дом вошли сотрудники ГПУ, он был арестован, препровожден в Шпалерную тюрьму, где содержались политические заключенные, и оперативно приговорен к смерти. Арест, допросы, пребывание в камере смертников, освобождение, короткое пребывание в костромской ссылке и отъезд описаны как самим Ребе, так и учениками с его слов. Эти, а также некоторые другие относящиеся к Ребе материалы собраны в книге «Героическая борьба», вышедшей не так давно на русском языке в Нью-Йорке.
Ребе адресовал «Записки об аресте» «своим хасидам, чтобы показать им, как учение хасидизма может пробудить в человеке мужество и духовную стойкость, несмотря на физические и моральные страдания»[2].
Однако эта книга представляет интерес не только для специализированного (хасидского) читателя, и этот интерес вовсе не ограничивается целями и рамками, поставленными автором.

«В ГПУ уже знают, в ЧЕм виноват Шнеерсон»
Обвинения, предъявленные Ребе, для человека со стороны представляются чистым абсурдом: контрреволюция, поддержка реакции в СССР, мракобесие, влияние на советское еврейство и авторитет среди американской буржуазии. Ему инкриминировалась также обширная переписка с заграницей, в том числе через посольства, организация нелегальных хедеров и ешив, контроль внутрироссийских и поступающих из-за рубежа финансовых потоков, «которые вы используете на поддержание и распространение религии в Советском Союзе, а также на борьбу против советского правительства»[3].
На допросах Ребе признал поддержание и распространение религии (он никогда этого и не скрывал), однако отрицал борьбу против советского правительства. Он признал, что занимался организацией системы еврейского религиозного образования, однако отрицал нелегальность и противозаконность своей деятельности, ссылаясь на конституцию и законы СССР.
В книге приводится любопытный разговор председателя московской еврейской общины А. Л. Фукса с одним из руководителей московской евсекции (еврейской секции РКП /б/) Моисеем Литваковым. Разговор состоялся еще до ареста Ребе. Литваков с раздражением говорит о посланцах Ребе, действующих по всей территории СССР – даже в таких далеких от влияния хасидизма местах, как Грузия и Туркестан. Приводимые факты, отмечает Фукс, «свидетельствовали об отличной организации дела»[4].
Литваков рассказывает об одном молодом грузинском еврее, который
выступал перед евреями (Грузии. – М. Г.) с пламенными речами. В частности, цитировал выдержки из кодекса советских законов, где говорилось, что гражданам разрешается создавать и содержать религиозные учреждения на собственные средства. Этот юнец, сказал раздраженно Литваков, переезжая из города в город, из поселка в поселок, повсюду выступал с речами, в которых расхваливал власть, предоставившую такие широкие права трудящимся, и ратовал за восстановление этих самых религиозных учреждений. И обычно после его отъезда так и происходило.
А в одном из поселков случился вообще анекдот. На выступление молодого человека пришли работники местного исполкома и, услышав, как он цитирует конституцию, по ошибке решили, что он представитель из центра. Воодушевленные его речью, они тут же единогласно постановили: отремонтировать микву за счет исполкома. Что и было сделано.
Кончилось всё это тем, что еврейская молодежь грузинских селений поднялась против комитетов евсекции и разогнала их на том основании, что законы советской страны позволяют гражданам в вопросах религии поступать по своему усмотрению. После чего были отремонтированы синагоги, общины приобрели новые свитки Торы, и по всей Грузии были открыты хедеры для обучения детей еврейской религии.
– В результате тщательного расследования, – заключил Литваков, – нам стало известно, что всё это дело рук раввина Шнеерсона. Он разослал своих агентов во все концы страны и огромными денежными суммами финансировал эти мероприятия.
Я было возразил Литвакову, что закон действительно гарантирует гражданам свободу вероисповедания, а верующие имеют право на собственные средства содержать религиозные учреждения. В чем же вина Ребе, если он популяризирует конституционные законы страны?
– В ГПУ, – ответил Литваков, – уже знают, в чем виноват Шнеерсон. И мы, – закончил он в ярости, – решили вырвать его с корнем! Давно уже собран у нас необходимый для этого материал[5].
Молодой грузинский еврей был предтечей правозащитного движения. Он опередил время на сорок лет. Надо бы ему памятник поставить.
Как свидетельствует этот разговор, евсекция в лице Литвакова вполне идентифицировала себя с ГПУ. С точки зрения Литвакова, правовая апелляция Фукса нерелевантна. Он мыслит совершенно иными категориями. Литваков учился в Сорбонне: изучал философию, историю, литературу. Европейское образование ничуть не препятствует правовому нигилизму. Случай Литвакова вполне типичен.
Не имело никакого значения, боролся Ребе против советской власти или нет, была его деятельность законной или незаконной: само его существование как лидера хасидизма было нетерпимо. В СССР формировалось тоталитарное общество, и все независимые центры авторитета и влияния должны были быть ликвидированы.
По расхожему мнению, антисемитизма до войны в СССР не существовало. На самом деле это совершенно не так: антисемитизм существовал, в том числе в партии, и искусно использовался Сталиным во внутриполитической борьбе, один из пиков которой пришелся как раз на 1927 год – год XV съезда ВКП (б) и победы над «еврейской» оппозицией.
Интересна реакция возглавлявшего ленинградское ГПУ Станислава Адамовича Мессинга на ходатайство об освобождении Ребе.
– Полностью исключается, – бросил он, что называется, с порога.
– Почему?
– Да хотя бы потому, что освобождение Любавичского Ребе вызовет вспышку антисемитизма в стране.
– ???
– Вы, конечно, знаете, – пояснил Мессинг, – что в тюрьмах и ссылке сколько угодно служителей культа: попов и пасторов, ксендзов и мулл... Но их не выпускают. Представьте себе, что начнется, если освободят раввина. Из каждой щели завопят черносотенцы: «Ага, что мы говорили! Это жидовская власть!»[6]
Аргумент Мессинга носил демагогический характер, поскольку сам он им не руководствовался: он рассматривал Ребе как своего политического противника, считал, что в интересах дела тот должен быть уничтожен или, на худой конец, изолирован; антисемитская реакция волновала его в последнюю очередь. Но он прекрасно понимал, что возразить на этот аргумент нечего, и охотно его использовал. И ходатайствующие за Ребе тоже это понимали. У Мессинга была репутация антисемита. Вопль черносотенцев цитируется им едва ли не с удовольствием. Зиновьев («жидовская власть») тщетно пытался сместить Мессинга, и этот частный конфликт был отражением более общего конфликта в ленинградском руководстве – о его национальной подоплеке все знали.
Арест, приговор к смерти, замена расстрела десятью годами ссылки на Соловках, замена Соловков Костромой, а затем скорое освобождение и последующая высылка Ребе из СССР определялись борьбой различных политических групп, интересов и влияний. В конечном счете, несмотря на сопротивление ленинградского ГПУ, Ребе был обменян на торговый договор с Латвией, в котором СССР был кровно заинтересован. Решение это было принято на самом высоком уровне.
Освобождение Ребе определялось чисто политическими причинами, хотя продолжает и поныне восприниматься как чудо. Действительно: левиафан проглотил Ребе и выплюнул его через восемнадцать дней живым и относительно невредимым. Выезд из СССР был разрешен «раввину Шнеерсону и его семье в сопровождении шести ближайших к нему лиц», среди которых был его будущий зять и преемник – седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История воистину фантастическая. 12 тамуза – день освобождения Ребе из тюрьмы – отмечается любавичскими хасидами во всем мире как религиозный праздник.
Товарищи наЧальники
В книге описаны устройство, быт и нравы знаменитой и внушавшей ужас ленинградской тюрьмы, люди Шпалерки: узники, тюремщики, служащие. Душная, темная одиночка для смертников, где сидят четверо, – царская тюрьма не рассчитана на массовые советские аресты. Садизм охранников, с удовольствием рассказывающих узникам о ночных расстрелах, о страданиях жертв – и наслаждающихся их смятением. Норовящих плеснуть кипятком на руки арестантам во время раздачи еды.
Ребе не замкнут в собственных переживаниях, ему интересны люди и обстоятельства, он умеет увидеть фактурную деталь. Вот, например, описание одежды гэпэушников высокого ранга, наводящих ужас даже на надзирателей.
Молодые люди <…> в коротких брюках и в шелковых цветных то ли английских, то ли американских рубахах, в красных высоких сапогах на пуговицах. Оба перепоясаны широкими ремнями с карманчиком для часов слева и револьверной кобурой справа. Холодные, спокойные лица, безукоризненные прически[7].
Ребе – человек высокой духовной жизни, человек Алохи, молитвы, религиозных размышлений. Но какая, однако, острота зрения по части материально-предметного мира! Что ему Гекуба? А ведь всё увидел, всё запомнил и по прошествии времени, наполненного массой разнообразных и жизненно важных событий, не изгладил за ничтожностью и ненадобностью из памяти, а с видимым удовольствием воспроизвел: материал, цвет, предположительная страна-производитель, фасон сапог, ширина ремня; кобуру запомнил – это понятно, но ведь и карманчик для часов не забыт, не сочтен неважным; что справа, что слева скрупулезно отмечено; выражение лиц и характер прически – всё предъявлено в целости и сохранности. Минималистский текст – мой комментарий много больше – а сколько всего! Живое визуальное описание. Прямо-таки для костюмерной экрана и сцены. Живость и визуальность вообще характерные особенности рассказов Ребе.
Он прекрасный рассказчик, сохраняющий чувство юмора в, казалось бы, невозможных для этого ситуациях. Для повествовательной убедительности некоторые монологи он передает по-русски в еврейской транслитерации: неожиданное переключение регистра – в переводе художественный эффект, увы, пропадает.
Конечно, как и каждый человек в ситуации внезапного ареста, он охвачен смятением, но достаточно быстро овладевает собой настолько, что, сидя в тюремной канцелярии, пытается определить структуру «ярлыка» – номера, присваиваемого арестанту. Самообладание в сочетании с наблюдательностью и аналитическим умом. Интеллектуальная забава в ситуации, когда, по мнению тюремщиков, он должен быть парализован ужасом. Психологически интересный эпизод.
Описание упомянутой канцелярии вполне кафкианское:
Переступив порог, я оказался в большой квадратной комнате с длинными столами вдоль трех стен. По одну сторону столов сидели секретарши – примерно двадцать женщин, все как одна с папиросами во рту. Не переставая курить, они усердно заполняли какие-то бумаги. Напротив, на длинных вдоль стола скамейках, сидели допрашиваемые «гости» <…>
Секретарши безостановочно писали на длинных бланках, время от времени кидая взгляд на сидящего напротив и задавая ему очередной вопрос. И вместе с тем в комнате царила гнетущая тишина, как будто нет в ней ни души. Настороженное, зловещее, обволакивающее молчание <...> Не затрагивая тишину, шелестят полушепотом вопросы и ответы. Лишь монотонно скрипят скользящие по бумаге перья <…> Видимая мягкость и вежливость секретарш только сбивает с толку и вконец запутывает мысли арестованного. А тем временем, по мере заполнения длинной анкеты, его положение становится всё более и более плачевным. Безобидные анкетные данные и бесхитростные ответы на вопросы из разных рубрик анкеты превращаются позднее – в опытных руках следователей и прокуроров – в обвинительный материал. Здесь умеют из любых признаний несчастного человека строить жуткие обвинения[8].
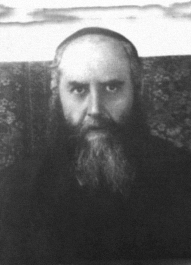
Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхок
Шнеерсон.
«Процесс», одним словом.
Многие эпизоды повествования Ребе читаются, как микроновеллы. Вот один из них – тем более любопытный, что это рассказ сокамерника – человека, автору совершенно чуждого. Ребе искусно имитирует «голос» рассказчика.
– Привели меня сюда, – говорит С., – в камере ни души, один я, одиночка, а правил тюрьмы не знаю. Ну, спать велят, а какой тут сон, раз в тюрьму попал, спать не хочется. Сел на койку и закурил. Дежурный в окошко глянул и говорит так зло – ложись! Ну, я его, как принято, по-матерному... Докурить не успел, дверь открывается, заходит надзиратель, давай, говорит, за мной.
Поднялся. По каким-то лестницам пошли, потом гляжу, подвал. Он одну дверь отпирает, заходи, говорит. Думаю, он за мной, а дверца – хлоп – и темно, хоть глаза выколи.
Ступил я шаг и чуть не упал – ну, чисто в коровнике, трясина под ногами до щиколотки. Воздух душный, вонища. Зажег спичку, смотрю – батюшки мои, погреб, ну, аршин[9], может, на пять. Стены сырые, течет, а под ногами черви – длинные, мерзость такая, белые и черные.
Спичка погасла, ну, думаю, с места не стронусь, как встал, так хоть всю ночь простою. Да не тут-то было. Крысы здоровенные, по ногам шастают, а стукнешь – визжат, кидаются. Ну просто страх Г-сподний, я и давай руками, ногами махать. Веришь ли, может, и часа не прошло, а замучился, кажется, ночь на исходе <…>
Вдруг слышу, дверь отпирают. Всё, думаю, конец, отсюда на расстрел. Кричит: «Выходи!» А куда выходить-то, кругом темень темная. «Ничего не вижу», – говорю. Тогда он свет зажег. Осмотрелся хорошенько, поверишь, еще страшнее стало. Это ж не погреб даже – яма зловонная <…>
– Давай, чего встал?! – начальник гавкает; тут уж я ждать себя не заставил. Вышел, стою и дрожу. «Ступай на лестницу», – говорит. «Слава тебе, Г-споди, – думаю, – кажись, не на расстрел».
– Ну, – говорит он мне, – успокоился? Будешь теперь знать, как с начальством здороваются?
Я молчу, киваю головой.
– Ты, – говорит, – теперь заключенный, я – твой начальник, а начальство нельзя материть. Понял?!.. Ну, иди спать. Будешь спать?
– Буду, – отвечаю, – обязательно, ваше благородие, буду.
Тюх да тюх, как он врежет мне с двух рук по физиономии. Тут я совсем обалдел, почему, за что, не знаю.
– Какое я тебе благородие, – орет. – Мерзавец ты, белый слуга, шпион... Да я тебя на трое суток сюда заколочу, если трех часов не достало.
– Батюшка ты мой, голубчик, – я уж и знать не знаю, что тут говорить положено, только причитаю, – миленький ты мой, господин начальник, век тебя слушать буду...
Как он мне трижды по физиономии-то тюх! Больно – страсть, зубы языком щупаю – шатаются, из носа кровь течет! А всё ж стою, держусь, как перед начальником стоять положено. Я человек бывалый, дисциплину солдатскую знаю. Четыре года государю послужил. И на японской был, и генералов видел. Порядок есть порядок, дисциплина – дело нешутейное, ты хоть сдохни, а солдатом верным оставайся. Так нас в старое время учили, не то что мальчишек нынешних, которые только водку пить горазды, да языком болтать направо и налево, а толку в них никакого.
– Какой я тебе господин?!.. «Товарищ» нужно говорить, теперь господ нет, все товарищи.
– Хорошо, – говорю, – товарищ. Больше не буду.
Тут он меня опять два раза двинул. Спасибо, не в лицо, а в грудь.
– Какой я тебе товарищ! Нельзя так начальника называть. Не забывай: ты заключенный, я – твой начальник. Так и говори впредь – «товарищ начальник»...
Как повел он меня обратно <…> иду и про себя повторяю: «Товарищ начальник, товарищ начальник». Боюсь – не забыть бы, а то плохо будет[10].
1927 год. ГУЛАГ не приобрел еще законченной формы. Еще носят цветные рубахи да красные сапоги с пуговицами и до «гражданина начальника» еще жить и жить.
5687 год от сотворениЯ мира
Герой книги – бесправный человек в нечеловеческих условиях перед лицом, возможно, скорой смерти. Поскольку это религиозный человек, возникает ситуация испытания веры. Ситуация тем более показательная, что человек этот один из тех, кто репрезентирует в своем лице иудаизм. Религиозное сопротивление не слишком хорошо известно в России. Это касается даже христианства – что уж говорить об иудаизме: история его в советские годы отражена на русском языке слабо и фрагментарно.
Вот самое начало повествования: «В ночь на среду 15 сивана 5687 года от сотворения мира». Автор совершенно не озабочен григорианским отображением даты: он пишет для своих. Еще и десяти лет не прошло с момента смены календаря, григорианский календарь воспринимается как большевистское нововведение, как новое время нового мира, в котором живут пришедшие арестовывать Ребе, его следователи и тюремщики. Реформа календаря не была чисто технической, она была вызовом сознанию миллионов русских людей. Более того, Русской православной церковью она и сегодня воспринимается как вызов.
Но Ребе-то живет в мире, не затронутом революционным сломом, он живет в неизменном мире еврейского времени, события его жизни естественным образом пребывают в потоке, исток которого в сотворении мира. Поток этот специфически структурирован, направлен и наполнен.
Ребе отдан во власть людей, у которых есть, казалось бы, неограниченные возможности разрушить его физически и морально. Жизнь его висит на волоске. Эмпирически его тюремщики всесильны. Они уверены в этом как в непреложном, ежеминутно подтверждаемом факте. Но Ребе живет в мире, где их всесилие мнимо, где всесилен только Всевышний, а Его волю, Его планы относительно себя, каковы бы они ни были, Ребе готов принять, и он ведет себя соответственно этому знанию. Вот эпизод заполнения анкеты в тюремной канцелярии. Вопросы задает секретарша. Диалог этот замечателен.
– Ваше социальное положение?
– Потомственный почетный гражданин.
– Этого сословия, – говорит она нервно, – уже не существует в нашей стране.
– Ничем не могу вам помочь. Существует в стране такое сословие или не существует, но именно таково мое социальное положение – потомственный почетный гражданин.
– Род ваших занятий?
– Я занимаюсь исследованием – Б-жественным исследованием, называемым хасидизм. А кроме того – изучением законов и предписаний еврейской религии.
– Религии? – переспросила она удивленно. – Б-жественным исследованием?..
– Да, да, именно Б-жественным исследованием. Единый Б-г, как мы знаем, сотворил этот свет и управляет с тех пор созданным Им миром и всеми творениями – от мельчайших организмов, обитающих в море или безжизненной пустыне, до человеческого сообщества.
– Как я могу писать, – перебивает она растерянно, – подобное в анкете?
– А кто вас заставляет? По мне, так ничего и не пишите. Вернее, хотите писать – записывайте, не хотите – ну и не надо[11].
Обратите внимание на уверенное «как мы знаем»: «мы» – кто это? Пораженная Б-жественным исследованием секретарша явным образом приглашается это знание разделить. Ребе говорит: Всевышний управляет человеческим сообществом – это в общем-то банальное утверждение сделано в ситуации, когда оно звучит в высшей степени парадоксально, бросает вызов непреложным фактам. Насчет мельчайших организмов – это не в компетенции органов, мельчайшие организмы, должно быть, до поры до времени, пока до них руки не дошли, управляются как-то сами собой, что же касается человеческого сообщества, то, «как мы знаем», оно управляется ГПУ, кем же еще? Своей уверенностью Ребе ставит под вопрос эту очевидность.
Рабби Соловейчик[12] утверждает:
Человек Алохи никогда не испытывает настоящего страха. Сознание упорядоченности и закономерности мира защищает его от страха, подобно щиту. Он вступает в мир, уже знакомый ему через априорное знание. Он подходит к миру, имея уже идеальную картину, которую он призван в конце концов воплотить в жизнь, полностью или частично; между этой картиной и миром существует параллелизм: чего же бояться? Ничто, пустота, хаос, бездна и тьма – все эти понятия не знакомы человеку Алохи. Мир, простирающийся перед ним, прекрасен и совершенен[13].

Еврейская ежедневная газета «Тагблатт»
(США) с информацией об аресте Ребе.
О самом термине «человек Алохи», введенном автором, – чуть позже. Что же касается утверждения, то оно, несмотря на всю свою убедительность, всё-таки относится к абстрактному, отвлеченному от плоти, отвлеченному от трагичности человеческого существования сознанию. И что значит «настоящий страх»? И чем он отличается он «ненастоящего»? Автор умалчивает. Цитируемое эссе написано в 1944-м. Всё-таки поразительно! Рабби Соловейчик жил в Нью-Йорке. От «настоящего страха» он был отделен океаном. Он мог размышлять о страхе, но не мог его переживать и преодолевать. У него не было опыта на грани смерти[14], у него не было опыта Ребе.
Теоретически рабби Соловейчик прав: мир, созданный Всевышним, мир в его онтологических глубинах «хорош»: «прекрасен и совершенен». «И увидел Б-г, что хорошо». Это «хорошо» – мир, увиденный глазами Всевышнего, – рефреном повторяется в процессе творения. Однако не увязанная с катастрофичностью бытия, вне переживания страдания, картина рабби Соловейчика, исполненная метафизического эстетизма и оптимизма, кажется лишенной объема.
Конечно, рабби Соловейчик, как и всякий человек, опытно знает, что такое бездна, тьма и отчаяние. Это знание есть в его поздних работах. Вот, например: «Когда в душу приходит ночь, в моменты мучений и черного отчаяния, когда жизнь кажется уродливой и абсурдной, когда человек теряет чувство прекрасного и величественного<…>» Но для того, чтобы написать эти слова, нужен был опыт, которого у рабби Соловейчика не было, когда он работал над «Человеком Алохи». Он говорит об этом: «Моя жена лежала на смертном одре, и я смотрел, как она умирает день за днём и час за часом»[15].
В «Человеке Алохи» этого опыта нет. Концептуальный «человек Алохи» из одноименного эссе не понимает, «чего же бояться?», не знает того, что знает обыкновенный страдающий человек. «Человек» и «страдающий человек» – синонимы. Так или иначе, смотреть на мир с таких позиций проще из Нью-Йорка, нежели из Освенцима или Шпалерной тюрьмы.
Как и любой человек, попавший в подобные обстоятельства, Ребе охвачен смятением, и он пишет об этом. Однако в итоге важен не страх сам по себе, а то, что он делает с человеком и что человек делает с ним. Ребе не дает страху выплеснуться наружу, он его контролирует, он с ним справляется, он его преодолевает, он приводит свои чувства в соответствие со своим разумом, со своей картиной мира.
Арест происходит ночью. Главная забота Ребе с момента ареста, забота, вытесняющая страх, – надеть тфилин во время утренней молитвы. Его требовательные просьбы ставят тюремщиков в тупик: они не понимают, как можно думать о таких «глупостях» в минуту смертельной опасности. Быть может, арестант не в полной мере сознает ее? Они со всей возможной откровенностью объясняют несообразительному раввину его положение. Но он продолжает настаивать. Ему отказывают.
Во время одного из переходов по тюрьме он решает проигнорировать запреты и молиться на ходу (конвоир идет впереди Ребе).
Только успеваю надеть тфилин на руку, как вдруг удар, и я качусь по железным ступенькам. Слава Б-гу, не ломаю руки и ноги.
С большим трудом поднимаюсь на ноги, ощущая при этом сильнейшую боль. Падая с лестницы, я сломал бандаж (который вынужден носить уже много лет), и острый кусок железа вонзился в тело. Сердце мучительно сжимается от боли, чувствую, еще немного – и потеряю сознание.
– Еще не то получишь от начальника, – вопит охранник. – Всё доложу о твоих молитвах! Вот полежишь в грязи да с крысами недельку, тогда и поймешь, что Шпалерка – не синагога, не молельня еврейская...
С великим трудом одолеваю последний пролет, плетусь за ним широким коридором, и – снова лестница. Нужно подняться на третий этаж.
Вынужден присесть на ступеньку. Кровь идет не останавливаясь, боль становится нестерпимой[16].
Далее он оказывается в кабинете, где сотрудник ГПУ проверяет его вещи.
В надежде на чудо прошу разрешения помолиться.
– Нет! – бросает он с ненавистью, даже не глядя в мою сторону.
И словно подтолкнуло меня. Мигом навязываю тфилин на руку, надеваю на голову – он продолжает стоять ко мне спиной – читаю «Шма Исроэл», затем начинаю молитву «Шмонэ-Эсрэ»...[17] В этот момент он заканчивает обыск, оборачивается и видит на мне тфилин.
Потрясенный, он смотрит на меня широко открытыми глазами, полными удивления и растерянности. Какое-то время молчит – видимо, от неожиданности потерял дар речи. Но его замешательство длится недолго, опомнившись, он превращается в дикого зверя. Физиономия искажается, принимает звериный оскал, кровь ударяет в лицо. Двумя руками вцепляется в тфилин шел-рош[18] и вопит:
– У, жидовская морда! В карцер посажу, изобью, изувечу... – и рвет с меня тфилин. Заканчиваю благословение: «... и царствуй над нами, Ты Сам, Всевышний, с любовью и милосердием». Чувствую, он вот-вот разорвет ремешки, и начинаю снимать тфилин[19].
Попав в камеру, он требует возвращения отобранных тфилин, объявляет голодовку и в конце концов добивается своего. Отказывается от некошерной тюремной пищи (раз в неделю ему передают из дому продуктовую посылку). И вот после восемнадцати дней заключения ему объявляют об освобождении из тюрьмы и ссылке в Кострому. Ребе осведомляется, когда поезд приходит в Кострому. Ему говорят: в субботу. Ребе отказывается покинуть Шпалерку. Отказ этот поразителен. Он готов остаться в руках палачей в ситуации неопределенности: сегодня решили отпустить – завтра... да мало ли что будет завтра?!
Из беседы седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона:
Ситуация была очень опасной, поскольку те, кто вынес Ребе смертный приговор, отстаивали свою жесткую линию. Вмешательство более высоких инстанций изменило их планы. Но эти люди продолжали придерживаться первоначальной точки зрения. Ребе по-прежнему от них зависел. Отказ ехать в субботу мог вызвать их гнев, поскольку нарушал их планы. Его твердая позиция по поводу соблюдения субботы воспринималась этими людьми как подрыв их авторитета.
Имелись причины, которые могли бы оправдать компромисс с властями с точки зрения Алохи. Ведь была вероятность, что путешествие в Шабат вообще не состоится. Могли, например, произойти перемены в железнодорожном расписании. И даже, если поезд отойдет вовремя, можно было найти причину прервать поездку – допустим, по состоянию здоровья. Таким образом, Ребе мог бы, не нарушая приказа властей, исполнить законы субботы должным образом.
Итак, нам нужно ответить на вопрос, почему Ребе выбрал позицию, которая была связана с риском и страданием. Ведь наиболее прагматичный совет звучал бы так: Ребе должен покинуть тюрьму немедленно, а затем придумать, каким образом избежать нарушения субботы <...>
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить два понятия: «Кидуш Ашем» – освящение Имени Всевышнего, и «Хилул Ашем» – лишение Его (Имени. – М. Г.) святости. Преследователи Ребе хотели свести на нет его многочисленные усилия по распространению Торы. Если бы Ребе принял их план, это была бы их победа: «Любавичский Ребе согласился ехать в субботу!» Об этом узнали бы другие евреи, не сведущие в алохических тонкостях. И хотя, учитывая опасность, Ребе поступил бы в полном согласии с Алохой, мог получиться «Хилул Ашем». Ребе Йосеф-Ицхок избрал другой путь: освящение Имени...[20]

Шпалерная тюрьма.
Важный принцип Алохи – приоритет человеческой жизни. Заповеди даны для жизни. Конечно, есть заповеди, которые нельзя нарушать даже под угрозой смерти. Но их мало. Тфилин, кошерная пища и суббота, несмотря на всю важность, к ним не относятся. Существовала реальная угроза жизни Ребе. Он мог бы и не упорствовать. Однако он избирает другой путь. Почему?
Относительно субботы зять Ребе Йосефа-Ицхока и его преемник ответил. Но как быть с тфилин? Если бы он не надел тфилин, что в его обстоятельствах было вполне допустимо, никто, кроме тех, кому он сам счел бы возможным рассказать, не узнал об этом, никто не мог бы интерпретировать его поступок неправильно: «Хилул Ашем» исключался. Каковы в таком случае мотивы Ребе?
И тут я вновь хотел бы вернуться к понятию, введенному рабби Соловейчиком: к «человеку Алохи» как к особому типу сознания, особому способу восприятия мира.
Для «человека Алохи» выполнение заповедей не есть только внешний закон: это глубочайшая внутренняя потребность. И вместе с тем ценностный акт. Говоря словами рабби Соловейчика, «он подходит к миру, имея уже идеальную картину, которую он призван в конце концов воплотить в жизнь». Рабби Соловейчик утверждает: «Ничто, пустота, хаос, бездна и тьма – все эти понятия не знакомы человеку Алохи». Но здесь есть очевидное противоречие: ведь если бы «пустота, хаос, бездна и тьма» эмпирически не существовали, «идеальную картину» не было бы нужды воплощать – призыв воплотить ее сам по себе предполагает наполнение пустоты, упорядочение хаоса, спасение из бездны, освещение тьмы.
Воплощая посредством выполнения заповедей «идеальную картину», «человек Алохи» отвоевывает место для Всевышнего в мире – возвращает Ему мир в исправленном от повреждений виде. Особую важность приобретает этот акт в «бездне и тьме», где, казалось бы, сделать это невозможно.
По замыслу строителей, думаю я, эти мрачные казематы предназначены для мук и гнета. Но именно в силу этого оказавшийся здесь еврей обязан обострять свой разум и чувства, читая отрывки из Торы и Теилим. И размышлять о величии Творца, о том, что славой Его полна вселенная и даже это разбойничье гнездо[21].
Описывая тюремную канцелярию, Ребе прямо обращается к образу тьмы: «Настороженное, зловещее, обволакивающее молчание... так бывает в ночи, когда угасает, медленно догорая, свеча, а мрак теснее и теснее заволакивает всё вокруг»[22]. Сгущенная, осязаемая тьма из казней египетских. Физическое ощущение: «теснее и теснее». Надевая тфилин, Ребе освещает и освящает тьму.
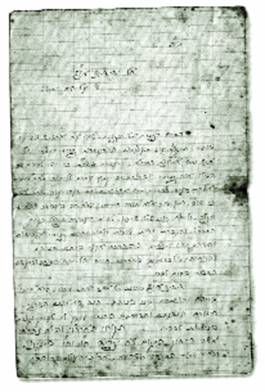
Письмо Ребе хасидам, написанное им при
отъезде из Советской России.
Я говорю сейчас о внутренней еврейской картине мира. Люди со стороны, – скажем, сокамерники Ребе, – ничего об этом не знают. Что они видят? Что видят тюремщики? Что видит читатель книги, далекий от еврейского религиозного опыта, не понимающий мотивов Ребе, не разделяющий его ценностей, более того, не имеющий о них представления?
Человека, исполненного силы, уверенности, достоинства и внутренней свободы. Его действия, очевидным образом провоцирующие сокрушительную реакцию, по существу самоубийственные, только укрепляют его и приводят тюремщиков в растерянность. Допустим, смертный приговор, вынесенный Ребе, не был бы отменен. Бездна и тьма ГУЛАГа и нацистских лагерей, расстрельных рвов и душегубок поглотили многих, надевавших тфилин и произносивших: «Царствуй над нами, Ты Сам, Всевышний, с любовью и милосердием».
Что это по существу меняет? Конечно, его освобождение воспринимается как чудо. Но есть вещь гораздо более существенная, чем это чудо: поведение Ребе. В ситуации на грани насильственной смерти, в сердцевине тьмы всё обнажается. Мы можем не знать, что такое Алоха, но мы видим в экстремальных условиях ее результат: личность человека. Чтобы увидеть это, вовсе необязательно быть любавичским хасидом. «Человек Алохи» – это ведь не только человек, выполняющий заповеди, но и человек, сформированный ими.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru
[1] 15 июня 1927 года.
[2]
Из предисловия издателей в кн.: Героическая борьба.
Нью-Йорк: Free Publshing Hous. Kehot Publishing Society, 5765–2005. С. XI.
[3] Героическая борьба. С. 107.
[4] Там же. С. 160.
[5] Там же. С. 160–161.
[6] Там же. С. 137.
[7] Там же. С. 57.
[8] Там же. С. 53–54.
[9] Аршин – 0,71 м.
[10] Там же. С. 100–102.
[11] Там же. С. 56–57.
[12] Рабби Йосеф-Дов а-Леви Соловейчик (1903, Пружаны Гродненской губ. – 1993, Бостон) – доктор философии (защитил в 1931 году в Берлине диссертацию по гносеологии и метафизике Германа Когена), в 1932–1941 годах – раввин Бостона, с 1941 года глава теологической семинарии при Ешива-университете (Нью-Йорк), с 1952 года председатель комиссии по вопросам Алохи при Объединении раввинов Америки.
[13] Рабби Соловейчик. Катарсис. Иерусалим: Амана–Маханаим, б/д. С. 39.
[14] См., напр., Яффа Элиах. Б-г здесь больше не живет. Хасидские истории эпохи Катастрофы. М.: Мосты культуры; Jerusalem: Gesharim, 2005; а также Михаил Горелик. Б-г здесь живет // Лехаим. 2005. № 10.
[15] Рабби Соловейчик. С. 229–230.
[16] Героическая борьба. С. 76.
[17] «Шмонэ-Эсрэ» – центральная молитва еврейской литургии. В узком (техническом) смысле термин «тфила» (молитва) относится только к «Шмонэ-Эсрэ».
[18] Тфилин шел-рош – головной тфилин.
[19] Героическая борьба. С. 79.
[20] Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон. Отказ от поездки в субботу // Героическая борьба. С. 242–244.
[21] Героическая борьба. С. 70.
[22] Там же. С. 53.