[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2010 ТАМУЗ 5770 – 7(219)
Ночь накануне конца света
Юлиан Стрыйковский
Аустерия
Пер. с польского К. Старосельской
М.: Книжники; Текст, 2010. – 284 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)

Юлиан Стрыйковский – псевдоним Песаха Старка (1905–1996), выходца из семьи галицийских хасидов. В молодости он вступил в Компартию, успел побывать в тюрьме, а после прихода коммунистов к власти в Польше сделал успешную журналистско-писательскую карьеру (его первый роман, «Возвращение в долину Фрагаля», о тяжелой жизни итальянских крестьян, был в 1953 году издан в СССР). Однако в середине 1960‑х Стрыйковский, протестуя против преследования инакомыслящих, вышел из ПОРП и сблизился с диссидентскими кругами, а впоследствии и с «Солидарностью».
Тогда же был написан его роман «Аустерия» – одно из нескольких произведений писателя о еврейской Галиции конца XIX – начала XX века. Время действия книги – самое начало первой мировой, место действия – корчма старого Тага, которую для пущей торжественности именуют аустерией. Роман Стрыйковского – это галицийский вариант легенды о потерянном рае, об Австро-Венгрии Франца-Иосифа, где евреи десятилетиями существовали, не зная горя, и не уставали славить императора. Этот мир ушел и никогда не вернется – престарелый кайзер через два года умрет, его империя распадется. Но пока об этом еще никто не подозревает: солдатушки, бравы ребятушки, только что промаршировали на войну, рассчитывая через пару месяцев, к Рош а-Шана, вернуться домой с победой. И не беда, что русские наступают, что потянулись первые беженцы, – посетители аустерии по-прежнему рассказывают друг другу истории о доброте и мудрости императора, Гарун аль-Рашидом бродящего по деревням и утешающего своих подданных в их несчастьях.
В корчме собрались вольнодумец, цадик, богач, калека – сравнение с ковчегом приходит в голову героям и читателям одновременно. Ненадолго заглядывает даже отставший от полка венгерский гусар, но лишь соблазняет одну из постоялиц и растворяется в ночной тьме – что ему делать на еврейском ковчеге? Евреи же ведут себя, как положено евреям: пересказывают анекдоты и притчи, бранятся, затевают теологические споры, танцуют, ждут Мессию. Пикейные жилеты недоумевают, зачем русские так торопятся захватить их городок – не иначе у них с оружием проблемы, – и возмущаются, что теперь воюют не по правилам, не то что в старые добрые времена.
Впрочем, все это кончится еще быстрее, чем Австро-Венгрия: через несколько минут, через несколько страниц. Придут казаки и справятся с изгнанием из рая не хуже херувима с огненным мечом. Местная Джульетта погибнет от первого же выстрела, Ромео повесят, с кем-то перепутав, город подожгут. А старый Таг, уверенный, что мир рушится из-за его грехов, принесет себя в жертву – уйдет на рассвете вместе с другом детства ксендзом требовать справедливости у русского коменданта.
Михаил Эдельштейн
Парадоксы принадлежности
Лев Городецкий
Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация
М.: Таргум, 2008. – 344 с.

Интерпретация мандельштамовского наследия давно уже превратилась в особую дисциплину, весьма разветвленную, подчас внутренне противоречивую, чреватую спорами и скандалами. Связано это не только со значимостью поэта для словесности ХХ века, его центральной (и все увеличивающейся с годами) ролью культурного героя, сформировавшего современный поэтический язык и предложившего многие интеллектуальные интуиции, столь важные в Новейшее время. Помимо всего этого, спор о творчестве Мандельштама может носить и идеологический характер (как это, впрочем, всегда происходит со структурообразующими персонажами культуры).
Принципиальнейшим в этом смысле остается полемика о принадлежности Мандельштама к христианской или еврейской культуре. Христианская интерпретация мандельштамовского творчества (и жизненного выбора), характерная для Н.Я. Мандельштам, получила развитие, например, у С.С. Аверинцева (впрочем, настаивавшего не на православном, а на западнохристианском, католическом выборе поэта). Ответом на эту позицию явилась работа Л.Ф. Кациса «Осип Мандельштам: мускус иудейства», где подробнейшим образом рассматриваются еврейские претексты и контексты мандельштамовских поэзии и особенно прозы. Исследователь подчеркивает: «Самое главное, Осип Мандельштам оставался евреем во всем, что он делал в жизни».
Лев Городецкий отчасти продолжает разработки Кациса, доводя их, впрочем, чуть ли не до абсурда. Характерно понимание культуры как пространства, дробящегося на цивилизации. Рассматривая отношения Мандельштама «с “германской” и немецко-еврейской культурно-цивилизационными системами, а также с русской цивилизацией», Городецкий постулирует, «что Мандельштам является “носителем генома” еврейской ашкеназийской цивилизации». И далее: «В этом смысле “национально-ориентированный” ашкеназский интеллектуал мог бы сказать: “Мандельштам – это наше все”».
Сама по себе эта идея (если принимать всерьез подобную классификацию «национально-ориентированных» цивилизаций) вполне имеет право на существование. Более того, она – на уровне концептуального проектирования – разрабатывается иногда остроумно; так, определяя сущность еврейской цивилизации, Городецкий говорит о «ее “интерфейсности”, “буферности”, медиативности, ориентации на информационное посредничество, на сохранение и передачу информации через время и пространство от одной цивилизации (социума) к другой». Однако уже здесь возникает методологическая проблема: есть ощущение, что исследователь не вполне различает объективную характеристику цивилизации и миф о ней (при том, что и миф может быть внутренним либо внешним по отношению к данной цивилизации или даже, так сказать, «трансцивилизационным»), – а меж тем вышеуказанное описание носит скорее мифологический характер.
Но это, в сущности, не имеющие прямого отношения к пониманию творчества Мандельштама постулаты. Впрочем, немало места Городецкий уделяет демонстрации «отторжения» Мандельштама русской цивилизацией, что должны доказывать многочисленные цитаты из критики, мемуаров и прочих документов. При этом уравниваются такие синтагмы, как ахматовское «его поэзия – темная, непонятная для публики, византийская» и куняевское «всего-навсего жидовский нарост на Тютчеве». На самом деле мифологический ореол, существовавший вокруг Мандельштама, подчеркивает его «чуждость» не более, чем, например, миф о Хлебникове, по поводу которого можно составить столь же объемную подборку, говорящую о нем как о «другом» (при этом, понятно, еврейство в случае Хлебникова будет совершенно ни при чем).
Важнее же всего методология анализа текстов и интерпретация результатов. Здесь центральным для Городецкого становится, в общем-то, бесспорный, но весьма локальный аспект текстопорождения, который у исследователя превращается едва ли не в основу для понимания мандельштамовского творчества. Речь идет об особенностях языковой картины мира, присущей Мандельштаму. Городецкий настаивает на ее двухуровневой структуре. С одной стороны, он подчеркивает в текстах Мандельштама черты «медиативности», «буферности» и т. п., присущие еврейской цивилизации согласно его собственным вышеприведенным утверждениям (иными словами, перед нами – опора на предъявленные в качестве аксиом постулаты). С другой – на более глубинном уровне Городецкий прослеживает многочисленные германизмы и идишизмы, проступающие в словоупотреблении и синтаксисе Мандельштама. Здесь есть ряд ценных наблюдений, но по преимуществу эти сближения вполне произвольны. Или, что еще важнее, необязательны: интертекст может ветвиться сколь угодно далеко, но важны сближения, реально распаковывающие смыслы текста, а не умножающие ризоматическую бесконечность ассоциаций. Наличие у Мандельштама «межъязыкового» слуха, контуры иноязычной стихии, проступающие сквозь русскую речь, очевидны – однако это вовсе не самое важное в его текстах.
Поэт в контексте эпохи
Петр Горелик, Никита Елисеев
По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 392 с.

Понимание личности Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986) является принципиальным для уяснения того, что происходило в целом в русской литературе середины минувшего века.
К сожалению, осознание особой важности Слуцкого, мало с кем сравнимого в подцензурной части литературного пространства – осознание, характерное для многих аналитиков и, скажем так, профессиональных читателей, – не получило доселе адекватного продолжения в критической и литературоведческой рефлексии по поводу судьбы и творчества поэта (несмотря на обширный том воспоминаний о Слуцком, выпущенный несколько лет назад). Быть может, дело тут именно в специфической двойственности репутации Слуцкого: фронтовик, коммунист, более того, человек, публично выступивший с осуждением Пастернака (часто не принимается в расчет, что именно это выступление, по сути, внутренне сломало Слуцкого, привело к его болезни и самоизоляции), но в то же время – покровитель молодых и независимых, бесстрашно ломающий стереотипы поэт, стремящийся к непривычно прямому, для многих неудобному высказыванию…
Книга Петра Горелика и Никиты Елисеева важна не только как чуть ли не первая попытка полномасштабного исследования биографии Слуцкого, совмещенного с очерком его творчества (биографии заведомо неакадемической: Елисеев представляет литературно-критический дискурс, Горелик, друг Слуцкого с харьковских школьных лет и до кончины поэта, – мемуарно-аналитический, вкрапленный в основную канву повествования так, что не разрывает текст, но придает ему дополнительное измерение). Важно здесь и стремление понять Слуцкого не изолированно – пусть бы и в диалоге с эпохой, от чего немыслимо отказаться в случае поэта-фронтовика, но в некоей, так сказать, блистательной историко-культурной изоляции (подобные попытки предпринимаются); нет, соавторы демонстрируют контекст не только исторический, социальный, но и собственно историко-литературный.
Эпоха «слома», «разрыва», «провала» оказывается в нашем восприятии подчас несамостоятельной, несущностной – либо слепой, выморочной полосой, отделяющей величие начала века от современности, либо своего рода зоной перехода, периодом одновременно мемориальным (для культуры предшествующей) и инкубационным (для последующей). И в том и в другом подходе есть резоны, но и тот и другой в равной степени мешают осознать феноменальность, самость данного периода, выделенность его из общего ряда. Помимо объективных внелитературных причин его «особости» – репрессии, война, социальное и культурное расщепление (от эмиграции до коллективизации) – есть и причины сугубо литературные, связанные с процессом растождествления общемодернистского языка, остававшегося еще в культурной памяти единым наречием, но уже не существовавшего в качестве подлинной целостности. Трагизм эпохи мог быть сознаваем разными способами; для Слуцкого он проходит сквозь психологический, социальный, даже политический аспекты бытия – но все равно упирается в проблему поэтического языка.
В этом смысле очень значимо место Слуцкого в картине до сих пор в полноте не осознанного литературного пространства той поры – его наследование позднему авангарду (лефовскому и конструктивистскому), участие в том круге поэтов, который в дальнейшем станет известен как фронтовое поколение (особенно важен диалог с другим харьковчанином – погибшим на войне Михаилом Кульчицким, а также специфическая многолетняя дружба-конкуренция с Давидом Самойловым). Но не менее, а может, и более важно понимание специфики контактов Слуцкого с младшим поколением. В этом смысле книга Горелика и Елисеева весьма полезна: в особый раздел здесь вынесена проблема диалога поэта с Иосифом Бродским и Сергеем Довлатовым. И если второе сопоставление представляется явственной натяжкой (или, по крайней мере, необязательным), то первое – принципиально и не может быть упущено при исследовании творческого генезиса будущего нобелиата.
Увы, на страницах книги не нашлось места характеристике контактов Слуцкого с другими представителями неофициальной культуры. Так, интереснейшим мог бы быть сюжет о Слуцком и «лианозовской школе». В книге поминается лишь известный эпизод, когда Слуцкий натолкнул Генриха Сапгира на идею писать детские стихи; меж тем соотнесение с поэзией Слуцкого «барачной» эстетики Евгения Кропивницкого и Игоря Холина (да и еще одного харьковчанина – Эдуарда Лимонова, близкого одно время к лианозовцам), «Голосов» Сапгира – необходимо для понимания контекста. Интересен и психологический конфликт между фронтовиками и следующим поколением – первыми нонконформистами пятидесятых, такими, как группа Леонида Черткова (в воспоминаниях и других текстах ее участника Андрея Сергеева, на страницах книги вовсе не упоминаемого, есть немало интересного на данную тему).
Отдельно соавторы рассматривают еврейскую тему у Слуцкого, показывая болезненную двойственность его самоощущения как еврея и русского поэта, наслоившуюся на непосредственный жизненный опыт. Другой раздел посвящен женским образам и вообще лирическому началу у Слуцкого. Особо, конечно же, говорится о процессе исключения Пастернака и той внутренней трагедии Слуцкого, которая связана с этой историей… К сожалению, эти страницы слишком эссеистичны, балансируют на грани критики и публицистики. Впрочем, это не мешает книге Горелика и Елисеева стать важным шагом на пути понимания одной из самых недооцененных поэтических фигур минувшего века.
Данила Давыдов
Неклишированный взгляд
Typisch! Klischees von Juden und anderen («Типично! Клише о евреях и других»).
Berlin: Nicolai, 2008. – 135 S. (На нем. яз.)
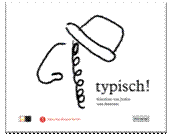
Эта книга задумывалась как каталог выставок в Еврейских музеях Вены и Берлина, но в итоге продается на amazon как самоценный том, состоящий из трех отменных эссе и огромного количества иллюстраций. Темой эссе стала жизнь клише во всем их разнообразии, от обобщения до стереотипа, от предубеждения до расистского высказывания. В качестве иллюстраций используется богатейший материал изобразительного искусства, фотографии, кино и даже сувенирной продукции.
Открывает книгу статья австрийской публицистки Изольды Харим «Негативный фетиш: способ функционирования расистских стереотипов». Автор пишет, в частности, о стереотипах как «парадоксальной форме» мировоззрения: они воспроизводятся как нечто, не нуждающееся в доказательствах, и в то же время никогда не могли бы быть доказаны (именно поэтому они нуждаются в постоянном повторении). Далее идет эссе американского романиста Дарила Пинкни «Маски и метафоры», следом – «Опыт о знакомом: о клише, стереотипах и предрассудках» Детлева Клаусена, профессора социологии из Ганновера.
За этими текстами следуют 25 главок, анализирующих образцы клишированного сознания. К примеру, тот же Пинкни описывает ситуацию с расовой сегрегацией в Америке, регулярно обострявшуюся после войн, которые вели США. Каждый раз возвращение чернокожих солдат домой сопровождалось усилением социальной напряженности – далеко не все на родине были готовы воспринимать солдат-героев как равноправных членов общества. Дополнением к наблюдениям Пинкни служит глава о Черной Венере, знаменитой танцовщице 1920‑х Джозефине Бейкер, которая вынуждена была делать карьеру в Европе, потому что цвет кожи лишал ее доступа на американскую сцену.
Клишированным оказывается прежде всего «типичный образ». Многие иллюстрации в книге воспроизводят экспонаты коллекции Мартина Шлафа, передавшего в 1993 году пять тысяч предметов Еврейскому музею Вены. Среди них – множество палок для ходьбы, массово производившихся в Вене в начале ХХ века. В качестве их навершия часто изображались лица с огромными, откровенно кривыми носами. Собиратель описывал эти лица как семитские – но речь должна идти скорее о готовности принять такое изображение за семитское.
Еврейскому профилю посвящена отдельная главка, где анализируется знаменитый бюст галериста Альфреда Флехтхайма, выполненный в 1927 году Рудольфом Беллингом. Лицо Флехтхайма изображено как комбинация глаз, рта и огромного носа – сегодня это выглядит едва ли не карикатурно. Именно так был воспринят держатель для книг под названием «Марсель Райх-Раницки» Герда Бауера и Руди Сопера (Германия, до 1999 года), изображающий известного критика польско-еврейского происхождения с огромнейшим носом.
Стереотипы возникают по отношению к самым разным религиозным и этническим группам, от цыган до негров. В книге описываются, в частности, европейские предубеждения против мусульман. В качестве примера рассматривается популярнейшая австрийская книга для детей «Воздушный шар Хатши Братши», опубликованная Францем-Карлом Гинцкеем в 1904 году и выдержавшая множество переизданий. Тексты послевоенных изданий были отредактированы, из иллюстраций и текста исчезли сцены, связанные с людоедством турков.
Политическим стереотипам посвящена глава «Призрак бродит по Европе». Здесь воспроизведен, например, белогвардейский плакат «Мир и свобода в Совдепии», отпечатанный в Одессе в 1918–1920 годах. Он изображает кровавую фигуру обнаженного Троцкого, восседающего на кремлевской стене над грудами человеческих черепов. Менее агрессивными предстают литературные персонажи вроде «шекспировского трагического еврея» из «Венецианского купца». Его изображение на протяжении столетий, включающее книжные и театрально-кинематографические версии и парафразы, в том числе израильский фильм «Avanti Popolo» (1986) Рафи Букае, пережило несколько этапов – от комического персонажа к образу мстительного скупердяя в XVIII веке и далее к трагическому герою ХХ столетия.
Какое чувство остается по прочтении этой книги? Возможна ли толерантность в мире, где, кажется, все стремится к упрощению и уплощению, структуры мышления примитивизируются, образы унифицируются, а предлагаемая для рассмотрения фактура сознательно обедняется, лишь бы подогнать ее под существующие схемы? Авторы не дают ответа, оставляя его на усмотрение читателя. В конечном счете все зависит от того, оптимист вы или пессимист.
Алексей Мокроусов
ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Университет и город в России (начало ХХ века)
Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева
М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 784 с.

Еврейский вопрос не относится к числу приоритетных сфер осмысления, к которым обращаются авторы сборника, посвященного исследованию городского контекста эволюции университетов Российской империи предреволюционного периода. Вместе с тем вопрос этот имплицитно присутствует в проблемном поле сборника и неизбежно эксплицируется при рассмотрении определенных аспектов университетской жизни и ее связей с городским окружением.
В сборник, завершивший совместный исследовательский проект «Немецкие и русские университеты в первой мировой войне: сравнительные исследования социальных, научных и политических связей», вошли семь обширных статей немецких, российских и эстонских историков, посвященные университетам Германии и России. В ходе проекта основное внимание уделялось описанию трех типов университета: столичного, провинциального и «пограничного», находящегося «в транзитивной и конфликтной области взаимодействия различных культур». В результате представленными оказались два университета российских столиц, а также самый западный (Тартуский/Дерптский/Юрьевский) и самый восточный (Казанский) университеты империи. Все четыре университета располагались в городах с традиционно полиэтническим и поликонфессиональным составом жителей; при этом Тартуский находился в провинциальном городе имперской «окраины» с преобладанием протестантов (немцев и эстонцев), а Казанский – в крупном губернском центре с преобладанием русского православного населения. Очевидно, что все означенные параметры приобретают существенное значение как с точки зрения заявленной в названии сборника темы, так и с точки зрения темы еврейской.
Эти две темы оказываются неразделимыми, когда речь идет об этноконфессиональной принадлежности профессорско-преподавательского состава и студентов; об отношениях власти и университета; об общественно-политической деятельности профессоров и студентов; о формах организации внутриуниверситетской деятельности и самоорганизации студентов; о проявлениях антисемитизма в университетской среде. Представленные в сборнике статистические данные свидетельствуют о жестких рамках пресловутой процентной нормы с одной стороны, но и о довольно широком наборе факторов, способствовавших как негативной, так и позитивной динамике в этом вопросе, – с другой. К таким факторам относились: личная позиция министра просвещения и вызванные ею изменения в университетском уставе; исторически сложившееся количественное соотношение коренного, русского и еврейского населения в регионе; роль евреев в общественной жизни города; специфика исторического момента и др.
Проявления антисемитизма в профессорско-преподавательской и студенческой среде, а также в окружавшем университет городском пространстве, в свою очередь, были обусловлены факторами внешнего порядка, от традиционно позитивного либо негативного отношения к евреям в определенной местности до тех или иных событий в общественной, политической, экономической жизни страны в целом и данного региона/города в частности. К событиям, вызвавшим взрыв антисемитских настроений, все исследователи относят революцию 1905 года и первую мировую войну. При этом война сыграла амбивалентную роль, изменив как положение студентов-евреев, так и отношение к ним со стороны внутренней, университетской, и внешней, городской. Многие профессорско-студенческие и собственно студенческие общества объединяли участников по общекультурному и профессиональному признакам, стирая этноконфессиональные различия и таким образом противостоя антисемитским настроениям. Боролись с антисемитизмом также некоторые студенческие землячества и национальные объединения.
В целом вывод о положении евреев в российских университетах начала прошлого столетия, несколько парадоксально предлагаемый в качестве предваряющего во вступительной статье, вполне оптимистичен: «Российский университет – вопреки процентным нормам для евреев и поляков – являлся с сословной и с национальной точки зрения учреждением открытым. Это касалось как студенчества, так и преподавательского корпуса. На основе русского языка и ввиду общих целей и задач здесь могли встречаться и сотрудничать представители различных сословий и национальностей – как едва ли где-нибудь еще в тогдашней Российской империи». Право читателя – согласиться с этим утверждением полностью, частично или же подвергнуть его сомнению.
Ольга Демидова
Еще раз о «Синеньком платочке»
В предыдущем номере журнала «Лeхаим» в статье «Песни черно-белого времени» в качестве создателей песни «Катюша» были указаны братья Покрасс. Вскоре в редакцию поступило письмо от Александра из Лос-Анджелеса. Он пишет: «Автор песни “Катюша” – Матвей Блантер, а не Покрасс». Нужно признаться честно: читатель прав. Ошибка вкралась по той причине, что журналист в момент создания текста находился буквально под гипнотическим впечатлением как от описанной программы военных песен Льва Рубинштейна, так и от съемок в телепередаче «ДОстояние РЕспублики», в которой произведения того же периода были исполнены в огромном количестве, и фамилии поэтов и композиторов роились в голове в полной неразберихе. Требуется восстановить справедливость.
Официально автором песни «Катюша» числится Матвей Блантер, автор текста – Михаил Исаковский. Первое исполнение песни датируется 27 ноября 1938 года. В энциклопедиях сказано, что ее исполнила Валентина Батищева в сопровождении оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого. Особую популярность песня приобрела в годы Великой Отечественной войны. В частности, считается, что именно в честь этой песни реактивные минометы БМ-13 стали именовать «катюшами». Но есть и другие версии происхождения названия орудия. Например, от аббревиатуры «КАТ» – «Костиковские автоматические термические», по фамилии разработчика «катюши». К слову, в период развенчания культа личности заслуги Андрея Костикова в разработке миномета были поставлены под сомнение. Другая версия происхождения названия – литеры «К» на корпусе машины (завод им. Калинина).
Нет единой версии не только о происхождении названия орудия, но и относительно песни. Конечно, братья Покрасс не имеют к ней отношения. Но справедливости ради отметим, что и авторство Матвея Блантера нередко подвергается сомнению. В частности, корни «Катюши» находят в комической опере Игоря Стравинского «Мавра» (1922). Похожая на «Катюшу» мелодия была переделана для сборника «Русский шансон» (1937). В Интернете нередко можно найти и упоминания о «венгерско-еврейском танце maramarosszigeti tanc», которым «вдохновлялся» Матвей Блантер. Положа руку на сердце, стоит сказать, что мелодию, с которой Матвей Блантер мог «списать» «Катюшу», в обоих случаях можно услышать, только если очень этого захотеть.
Однако целый ряд довольно известных песен, которые у нас принято называть «военными» и ассоциировать с Великой Отечественной, были действительно либо написаны до войны, либо использовали мотивы довоенных произведений. К примеру, песня «На поле танки грохотали» представляет собой переделку шахтерской песни «Коногон», звучавшей в фильме «Большая жизнь» (1939). Она начиналась словами: «Эх, что-то сердце заболело, – / Шахтер своей жене сказал. / – Чуешь беду? Не в том ли дело? / Шахтер жене не отвечал».
Ставшая фактически гимном танковых войск песня «Три танкиста» («На границе тучи ходят хмуро») также появилась до войны. Она была написана для фильма «Трактористы» братьями Покрасс. Авторству Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов принадлежат самые известные довоенные патриотические песни, в том числе «Марш Буденного» («Мы – красная кавалерия») и «Красная Армия всех сильней». А вскоре после взятия Берлина они написали «Казаков в Берлине». К слову сказать, в семье Якова Моисеевича Покрасса, скромного торговца колбасой из Киева, всего было 12 детей, и, как минимум, пятеро имели отношение к музыке, с детства зарабатывали игрой на еврейских свадьбах. Автор песни «Красная Армия всех сильней» Самуил Покрасс в юности считал своим призванием романсы. Патриотическая линия в творчестве братьев появилась, что называется, по велению времени. В 1924 году Самуил Покрасс эмигрировал. Считается, что все «хиты» братьев – лишь развитие его наработок.
Песня «Смуглянка», ставшая популярной после выхода на экраны фильма «В бой идут одни старики» (1973), также появилась до войны. Она была частью сюиты Анатолия Новикова и Якова Шведова о Григории Котовском. Сюита была написана в 1940 году по заказу ансамбля Киевского Особого военного округа. Сюита стала частью советского мифа, в данном случае – мифа о «герое Гражданской войны» Котовском. Фигура это крайне противоречивая. Используя нынешнюю терминологию, Григорий Котовский был, по сути, простым «боевиком» не самых строгих правил. Согласно официальной версии, Григория Котовского убил адъютант Мишки Япончика в отместку за учиненные частями Котовского в годы Гражданской войны еврейские погромы. Есть и другие, не менее колоритные версии. Пианист Левон Оганезов рассказывал автору этих строк, что его теща служила стенографисткой в штабе Котовского, и, по ее словам, героя убил его собственный помощник, застав со своей женой. Впрочем, непосредственного отношения к «Смуглянке» этот факт не имеет. У песни своя сложная история. В довоенные годы она не исполнялась. Ее партитура была утеряна, и только в 1944 году песню восстановили по черновикам, когда Александр Александров, автор советского гимна и руководитель знаменитого ансамбля песни и пляски, попросил у композитора песни для новой программы. Ансамбль исполнил песню в Зале им. Чайковского, вскоре ее услышали на фронте и исполняли как произведение, воспевавшее освободителей Молдавии. Каноническая версия прозвучала почти тридцать лет спустя – в фильме о «поющей эскадрилье». Действие «В бой идут одни старики» происходит в 1943 году, то есть летчики фактически исполняют песню, которая еще не сочинена.
Песню «Синенький скромный платочек», ставшую «визитной карточкой» Клавдии Шульженко, написал в 1939 году польский композитор Ежи Петербургский. После раздела Польши он остался в оказавшемся на территории Белоруссии Белостоке и возглавил республиканский джаз-оркестр. По другой версии, поляк Петербургский гастролировал в СССР в составе ансамбля «Голубой джаз». Во время концерта в столичном театре «Эрмитаж» поэт Яков Галицкий был восхищен вальсом, исполненным ансамблем, и тут же написал на него стихи. Песня попала в репертуар Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой, Лидии Руслановой, Екатерины Юровской. Каждый исполнитель пел ее немного по-своему, и в довоенную пору пулеметчик в тексте не строчил. Клавдия Шульженко стала исполнять «Платочек» лишь в 1942 году. Журналист Михаил Максимов, служивший в газете 54-й армии Волховского фронта, специально для нее переделал строчки Якова Галицкого. По просьбе певицы он добавил строки, «отражавшие великую битву с фашизмом». Несмотря на то что в тексте появился пулеметчик, она, как принято считать, стала первой лирической фронтовой песней, прервавшей череду маршей и патриотических агиток. История «военных» песен – материал сколь захватывающий, столь и неоднозначный, как и история самой войны. По мере того как с нее сходит идеологическая патина, всплывают все новые и новые детали. И иногда концы с концами никак не желают сходиться.
Борис Барабанов
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.