[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2011 ИЯР 5771 – 5(229)
Права истории и права воображения
Синтия Озик
Впервые мир осознал природу и масштаб зверств, которые полвека назад немцы чинили над евреями, не через слова. О последних и самых кошмарных из этих зверств нельзя было прочитать в газетах — отчеты о происходившем были под запретом, но на раннем этапе некоторые из бесчинств можно было мельком увидеть в кинохронике: столпы пламени и дыма, вырывавшиеся из крыш синагог 9 ноября 1938 года[1], костры из горящих книг на городских площадях, сияющие лица юнцов, швырявших в огонь творения человеческого разума. Удобно устроившись в американском кинозале, можно было увидеть все это собственными глазами, как можно — пленка создает иллюзию сопричастности — увидеть те же сцены и сегодня.

Объятая огнем синагога в Обер-Рамштадте во время Хрустальной
ночи. 9–10 ноября 1938 года. Коллекция Труди
Айзенберг. Мемориальный музей Холокоста США
Горящие синагоги и горящие книги — это олицетворение времени, когда почти во всей Европе началась травля беззащитных евреев. Есть и другие, столь же врезающиеся в память образы: фото мальчугана в кепке, сбившейся набок, — он в ужасе вскидывает вверх руки (когда глядишь на эти отчаянные глаза, на худенькие локоточки, аккуратную кепочку, неизбежно начинаешь верить в существование абсолютного зла); или — в конце войны адская махина английского бульдозера сгребает человеческие скелеты в ров. В фильме бульдозер вслепую подает вперед, гребет, разворачивается, снова гребет. Камера приглашает нас на эту голгофу снова и снова — столько раз, сколько у нас хватит духу смотреть. Приходится предположить, что некоторые из этих картинок так часто встречаются, что примелькались, превратились в клише и даже самые сострадающие сострадать уже не могут. Мне всякий раз вспоминается высказывание одного известного писателя: «От тех давнишних событий, — писал он, — все в тебе переворачивается, а потом жаждешь подвергнуть все это осмеянию».
Есть еще одна картинка, не столь известная, как горящие синагоги, мальчик или бульдозер; ее жестокость еще очевиднее — потому что сама ее жестокость неочевидна. И если сатира — пародия на норму, тогда, пожалуй, эта сценка — шарж, который заинтересует и самого пресытившегося наблюдателя. Городская улица, чистая, современная, с раскидистыми деревьями и пышными кустами, в ясный осенний день. С дороги убрали все машины — расчистили место для шествия. Идут одни мужчины, отцы семейств, кормильцы, все из среднего класса — бюргеры в длинных пальто и серых шляпах тридцатых годов; вид у всех достойный, только лица хмурые. Вдоль дороги за импровизированными загородками радостная толпа горожан — все выглядят столь же респектабельно, как сами шествующие, все хорошо одеты, мужчины, женщины, дети, но в основном женщины и дети — время, отметим, рабочее, когда отцы семейств и кормильцы обычно сидят по конторам. Погода чудесная, люди симпатичные, женщины смеются, шествующие печальны; то тут, то там какой-нибудь ребенок осмеливается выбежать за загородку. Шествующие — евреи, их уводят согласно плану, который приведет к их уничтожению; сопровождают их вооруженные солдаты. Наверное, наблюдающие еще не знают, куда отправляют эту колонну, но что за развлечение, что за радость видеть этих достойных граждан, превращенных под дулом винтовок чуть ли не в клоунов на арене цирка.
От этих картинок бросает в дрожь, но мы должны быть благодарны немецкому объективу, их запечатлевшему. Немецкий объектив запечатлел правдиво; изображения четкие и достоверные: камера и действо связаны накрепко. Фотография хотя и может быть сродни подделке (взять хотя бы вопиющую тенденциозность многих современных «документальных фильмов»), в те времена камера не лгала. Она предоставляла — и сохраняла — отчет предельно ясный и неизменно честный. А позднее, когда начали поступать первые сообщения об актах насилия, мы понимали, что они столь же четкие и достоверные, как фотоснимки. Безупречно честный голос Эли Визеля[2], безупречно честный голос Примо Леви; запинающиеся голоса свидетелей, у которых нет ни славы, ни голоса, но речь их звучит, превозмогая заикание и боль от прошлых страданий. Голоса христианской совести и раскаяния. Все эти слова были следствием происходившего — в отличие от снимков. Снимки отражали момент; они хоть и могли помочь памяти, но не были собственно памятью. Снимки нельзя было оспаривать. Нельзя было изменить то, что они сурово и окончательно зафиксировали. А слова лились потоками, множились, становились все разнообразнее и отдаленнее, поэтому некоторые из них вырывались за ворота памяти на куда более свободные поля притчи, мифа, аналогии, символа, рассказа. И если память неуклонно отдавала дань истории, рассказ обращался к другим музам. Там, где память была сурова, вымысел мог быть кротким и порой неточным. Память билась за строгость исторической точности, а литература обращалась к истории, чтобы использовать ее в качестве стимула и раздражителя.
В этом-то и загвоздка: у воображения и истории разные цели. Современные ученые относятся к историографии с огромным сомнением; историю они считают глиной, которую лепит историк; всеведение вызывает подозрение, равно как объективность и старомодные претензии на историческую достоверность; причины Пелопоннесской войны порой таковы, каковыми считаю их я, а порой — каковыми считаешь их ты. Но даже под сломанным зонтиком современного релятивизма история пока что не оборотилась басней. Ученые могут спорить о том, что происходило, но они согласны относительно того, что действительно произошло. Твой Наполеон, возможно, не мой Наполеон, но факт существования Наполеона не подлежит сомнению. До определенной степени история — должник реальности.
Воображение — литература — свободнее этого; оно вообще свободно. Литературе разрешено делать все, что ей заблагорассудится. Литература — это свобода во всей ее полноте. Она может, если пожелает, — на манер «Янки при дворе короля Артура» или Мела Брукса, оказавшегося в эпохе Французской революции[3], — поставить Наполеона во главе войска Спарты. Она может менять историю, она может выдумывать историю, которой никогда не было, — если остается хоть намек на правдоподобие. Литературный герой представляет только самого себя. Можно быть знакомым с кем-то, «похожим» на Эмму Бовари или Анну Каренину, но если вам нужна подлинная и единственная Бовари, нужно обратиться к Флоберу, а если нужна подлинная и единственная Анна Каренина, нужно обратиться к Толстому. Бовари — не воплощение всех французских женщин, она выдумана Флобером. Каренина — не воплощение всех русских женщин, она выдумана Толстым. Воображение ничего не должно тому, что мы называем действительностью; оно ничего не должно истории. Выражение «исторический роман» — во многом оксюморон. История основывается на документах и архивах. История — это то, что мы извлекаем из памяти. Литература избегает библиотек и обожает ложь.
Права литературы — это не права истории.
Тогда какие у меня основания презирать рассказ, который ниспровергает документы и архивы? Какие основания возмущаться тем, что роман фальсифицирует память? Если литература упраздняет факт, это — прерогатива воображения. И если память со всей страстью следует истории, почему это должно умалять права литературы? Почему придуманные люди из романов должны соответствовать истории или подтверждать ее? Литературные персонажи — не иллюстрации, не изображение существующего. Они созданы свободным воображением; они не имеют ничего общего ни с живыми, ни с мертвыми; у них свой путь.
На этом тема закрывается — или должна была бы закрыться. Предмета спора нет. Но есть, правда, определенные трудности. Литература подразумевает перевоплощение: каждый писатель входит в личность своего персонажа; сочинитель притворяется, играет роль, примеривает на себя чужой образ. Писатели по сути своей — профессиональные самозванцы; они становятся теми, кого придумывают. Когда самозванство ограничивается рамками произведения, мы называем это искусством. Но когда перевоплощение выходит за рамки произведения и захватывает жизнь, мы называем это надувательством или даже мошенничеством. Три недавних примера привлекли внимание публики: все спровоцировали споры и дискуссии.
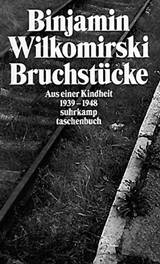
Обложка книги Биньямина Вилкомирски «Фрагменты.
1939–1948 годы»
В 1995 году Алан Дершовиц, известный и участием в защите О. Джея Симпсона[4], и книгами о проблемах самосознания евреев, опубликовал рецензию на «Руку, что подписывала документы», австралийский роман на украинскую тему. Дершовиц, возмущенный как сюжетом, так и содержанием, обвинил двадцатичетырехлетнюю писательницу Хелен Демиденко в «донельзя примитивном проявлении классического украинского антисемитизма: все евреи — коммунисты, мошенники, грязные животные и недочеловеки». В романе, по пересказу Дершовица, красные комиссары (все евреи) приезжают в тридцатых годах на Украину и сжигают дом со всеми его обитателями; разумеется, выживший ребенок становится так называемым Иваном Грозным Треблинки[5]. Еврейка из Ленинграда, продолжает пересказ Дершовиц, «отказывается лечить больного украинского ребенка и заявляет: “Я врач, а не ветеринар”». Демиденко, считает он, ставит «коварную цель»: «объяснить участие украинцев в Холокосте так, чтобы убийцы остались безнаказанными», а ее «гнев направлен прежде всего на выживших евреев, которые хотели передать своих украинских мучителей в руки правосудия».
Вскоре после появления рецензии Дершовица Австралийская федерация украинских организаций пригрозила ему судебным преследованием за нарушение австралийского закона о клевете на расовой основе. Дершовиц ответил, что будет рад судебному разбирательству, которое «станет идеальным способом напомнить миру о соучастии украинцев в Холокосте, устроенном нацистами». Пустившись в юридические и политические дебаты, все забыли, что спор идет вокруг литературного произведения. Тем временем роман занял четвертую строчку в списке австралийских бестселлеров и получил самую престижную в стране премию Майлса Франклина. Жюри восхваляло Демиденко за то, что она осветила «ту часть опыта австралийских иммигрантов, о которой прежде никто не осмеливался говорить». Сама Демиденко утверждала, что в основу романа легли испытания, выпавшие на долю ее семьи.
Все стороны оказались жертвами обмана: и возмущенный рецензент, и оскорбленные украинцы, и издатель, и жюри премии. Настоящее имя Хелен Демиденко было Хелен Дарвиль: дочка иммигрантов из Англии выдала себя за украинку, чтобы ее история выглядела более достоверной. Издательство «Аллен энд Анвин», опубликовавшее роман Дарвиль, признало, что автор «допустил ряд глупых ошибок», но заявило, что «перед нами, тем не менее, мощная книга, книга, осмелившаяся затронуть темы, приводящие в трепет». Возражения Дершовица были направлены не по адресу. Однако, когда выяснилось, что Демиденко на самом деле Дарвиль, судом Дершовицу угрожать перестали.
Более запутанный случай литературного перевоплощения имел место в Эквадоре: Саломон Исаковичи, родившийся в Румынии узник концлагеря, решил рассказать о том, что он пережил при нацизме. Он взял себе в помощники и в переводчики на испанский Хуана Мануэля Родригеса, иезуита и бывшего священника; неясно, был ли Родригес секретарем, писал ли он за Исаковичи или выступал как соавтор. В 1990 году рукопись под названием «Человек из пепла» была опубликована в Мексике под обеими фамилиями и объявлена «жестоким и правдивым свидетельством узника нацистского концлагеря». Еврейская община Мексики сочла это подлинным рассказом свидетеля и присудила книге премию. Исаковичи умер в начале 1998 года, но за три года до этого в письме назвал себя «законным автором», а «Человека из пепла» — своей автобиографией и заявил, что Родригес был нанят исключительно для помощи «по литературной части и организации материала». В статье в «Форвард»[6] Илан Ставанс, писатель и университетский профессор, получивший образование в Мексике, цитирует Родригеса, который утверждает, что он «написал всю книгу и придумал название за полгода, основываясь на рукописи [Исаковичи] и беседах с ним».
Родригес продолжает настаивать, что «Человек из пепла» — не мемуары Исаковичи, а, скорее, плод его собственного художественного воображения. «Я вложил в уста Саломона многие из своих философских идей, — рассказал он Ставансу. — Здесь мне помогло мое знание философии, благодаря чему книга превратилась из простого рассказа о случившемся в роман идей». Осенью 1999 года издательство Университета Небраски опубликовало книгу по-английски — как мемуары Исаковичи, и Родригес указан в качестве соавтора, однако Родригес намерен подать иск. «Саломон — главный герой моего романа, а я — его автор, — утверждает он. — Я сочинил некоторые события и детали, а он потом поверил в то, что все это пережил. Для него эта книга — автобиография, для меня — увлекательный роман». Не останавливаясь на том, как можно назвать описания страданий в концлагере «увлекательными», зададимся другим вопросом: как нам относиться к тому, что выглядит проявлением узурпации? Если Родригес объявляет рассказ о пережитом вымыслом, значит ли это, что здесь Холокост отрицается? Или же подтверждается — в терминах искусства?
Схожий вопрос на столь же окутанную мраком тему можно задать и относительно поразительной истории книги «Фрагменты. Детство 1939–1948», опубликованной как воспоминания Бенджамина Вилкомирски, объявившего себя латвийским евреем. Книга, изданная в 1995 году немецким издательством «Зуркамп Ферлаг», а через год нью-йоркским «Шокен букс», выдается за воспоминания мальчика, родившегося в Риге и в три года попавшего в Майданек, концлагерь на территории Польши, — его память удалось восстановить благодаря сеансам психотерапии. «Фрагменты» провозгласили литературным шедевром, во Франции книга получила премию Фонда памяти Шоа, в Англии — литературную премию журнала «Джуиш квотерли», в США — Национальную еврейскую книжную премию. Она была одобрена Мемориальным музеем Холокоста в Вашингтоне, переведена на десяток, если не больше, языков, получила хвалебные отзывы известных писателей. Ее успех стал подтверждением теории о том, что можно восстановить вытесненные из сознания воспоминания даже о событиях, случившихся в раннем детстве; это была рассказанная невинным голосом ребенка история о тирании фашистов, сравнимая со ставшими классическими свидетельствами Эли Визеля и Анны Франк.
Все стало рассыпаться, когда Даниэль Ганцфрид, шведский писатель и сын человека, пережившего Холокост, решил найти подтверждения рассказу Вилкомирски. Однако обнаружил несоответствия в датах и фактах, а также документы — по ним Вилкомирски родился в Швейцарии в 1941 году от незамужней шведки-протестантки Ивонны Гросхен. Он откопал и бумаги, подтверждающие, что Вилкомирски был усыновлен под именем Бруно Доссекер довольно обеспеченной парой из Цюриха. Тогда же историки Холокоста стали говорить о том, что всех без исключения детей моложе семи лет отправляли в газовые камеры — почему-то этих возражений тогда, когда книгу восхваляли и давали ей премии, никто в ход не пускал. Разоблачения Ганцфрида серьезно обеспокоили нескольких издателей Вилкомирски. В конце 1999 года «Зуркамп Ферлаг» изъяло из продажи издание «Фрагментов» в твердой обложке, и через несколько недель то же решение приняло «Шокен». Американская переводчица книги Кэрол Джейнуэй заявила, что «хоть “Фрагменты” и оказали на читателей огромное воздействие, поступаться правдой не следует», и рассуждала о том, как «люди были сбиты с толку рассуждениями о психологических явлениях, с этим связанных». В защиту Вилкомирски была высказана мысль (здесь есть сходство с претензиями Родригеса к Исаковичи), что не было никакого надувательства, что Вилкомирски никого не обманывал, поскольку верит в записанный рассказ и считает, что все это произошло с ним. Может быть. В таком случае, вероятно, кому-то захочется объявить его невменяемым. Но все равно его убеждение — если это убеждение — причинило вред: один человек из Израиля, переживший Холокост, решил, что обрел сына, которого считал погибшим.
Дело не только в этом. Утверждая, что премию Американской ассоциации психического здоровья Вилкомирски получил по праву, один психолог, член этой организации, заявил: «Мы отметили мистера Вилкомирски не как историки или политики, а как профессионалы, занимающиеся проблемой психического здоровья. То, что он написал, важно с медицинской точки зрения». Из этого можно сделать вывод, что людям, занимающимся «проблемой психического здоровья», безразлична историческая достоверность и они отказываются признавать, что на самом деле совершили политический поступок. Если Вилкомирски действительно все выдумал, то те, кто его восхваляет, встают — с политической точки зрения — на позицию тех, кто утверждает, что Холокост — это выдумка. В любом случае, как способствует решению проблем, касающихся психического здоровья, поддержка человека, который, возможно, публично солгал, возможно, является либо авантюристом, либо сумасшедшим?
Конфликт между вольным полетом воображения и честным стремлением вырваться за рамки исторических фактов — дело путаное и зачастую мутное. Если бы речь шла, скажем, о войнах, описанных Гомером, путаница могла бы быть безвредной, даже вносила бы некоторую игривость — как в плутовском романе. Но речь идет о Холокосте, и здесь, возможно, имеют место мошенничество, надувательство или обман. То, что позволительно шаловливо изобретательному автору «Робинзона Крузо» — литературе, прикидывающейся хрониками, — непозволительно тем, кто касается темы, связанной с уничтожением шести миллионов человек и искоренения их культуры, складывавшейся в Европе столетиями.
Однако вопрос о том, давать или не давать волю воображению, этим не ограничивается. За пределами вывертов перевоплощения или нервической фальши самозванства находится священная область, принадлежащая искусству, или. скажем скромнее, область, на которую распространяются довольно расплывчатые права литературы. Я хочу привести в пример два романа: «Выбор Софи» Уильяма Стайрона и «Чтец» Бернарда Шлинка, первый вышел в 1979 году, второй — в 1998-м, одна книга, получившая широкое признание, написана крупным американским прозаиком, другая — знаменитым немецким писателем. Сюжет обоих романов тесно связан с темой концлагерей.
«Выбор Софи» появился через двенадцать лет после получившего Пулитцеровскую премию романа Стайрона «Признания Ната Тернера» и также стал бестселлером. Он начинается как вполне традиционный Bildungsroman[7] и рассказывает о довольно увлекательных приключениях Стинго, начинающего писателя-южанина, который, стремясь в Нью-Йорк, оказывается в Бруклине, в «царстве евреев». В пансионе миссис Йетты Циммерман Стинго знакомится с Натаном Ландау и его любовницей, красавицей полькой по имени Софи. Натан — сумасшедший еврей, параноик и шизофреник, в моменты просветления — неуверенный в себе человек, в остальное время человек жестокий, с суицидальными наклонностями. Софи мучает страшное прошлое, в которое она постепенно посвящает Стинго, и обе части романа — Бруклин и Аушвиц — начинают складываться в одно целое. Благодаря истории страданий, которые претерпела Софи в Аушвице, «Выбор Софи» и завоевал стойкую репутацию «романа о Холокосте».

Постер к фильму «Выбор Софи». 1982 год. Keith Barish Productions, ITC, Jadran Film
Это в определенной степени правомерно, по крайней мере в том, что касается тщательно выверенных исторических частей, касающихся «окончательного решения»[8] в Польше. Примо Леви в «Канувших и спасенных» заявляет, что от девяноста до девяноста пяти процентов жертв Аушвица были евреями, и куски романа Стайрона, опирающиеся на факты, этому не противоречат. Информации о поляках-христианах в Аушвице у него значительно меньше, собственно, ее почти нет. Он показывает нам саму Софи, но не дает фактических данных, как делает, когда речь идет о депортации евреев, — например, указывает точные даты прибытия в Аушвиц, рассказывая о том, как в газовые камеры отправили греческих евреев, или называет количество евреев, проживавших в Варшаве до 1939 года, или отмечает, что «переселение» из Варшавского гетто происходило в июле и августе 1942 года. Всякий раз, когда появляются признаки исследовательской работы Стайрона — а они точны и часты, — речь в них идет о евреях.
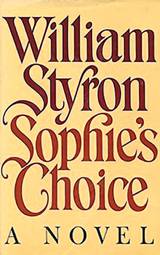
Обложка первого издания романа Уильяма Стайрона «Выбор Софи». 1979 год. Random House
Рассказывая о польских христианах, он сообщает нам о нацистской программе «Lebensborn»[9], по которой «арийского» вида польских детей предполагалось воспитывать в Германии как немцев, рассказывает об организациях польского Сопротивления, многие из которых были сугубо антисемитского толка — хотя двое участников Сопротивления в романе искренне сострадают евреям, описывает товарный вагон, забитый трупами польских детей, отвергнутых «Lebensborn», говорит, как было отменено решение делать татуировки заключенным полякам-христианам. Отец и муж Софи изображены людьми, не на шутку ненавидящими евреев. О 75 тысячах поляках-христианах, погубленных в Аушвице, в романе нет ни данных, ни подробностей, точнее, их представляет одна Софи. Но 75 тысяч поляков-христиан были убиты в Аушвице — что было, то было. Если расследования Стайрона в Аушвице приводят к бесчисленным евреям, так это потому, что число погибших евреев значительно превосходило число погибших поляков-христиан, однако — в этом нет сомнений — на фабрике бесчеловечности, которой был Аушвиц, страдания были одинаково непереносимы для всех. Здесь не может быть иерархии, и страдание не измерить ни цифрами, ни процентами, ни сопоставлением по большинству.
Но насколько значимо, и значимо ли вообще, что автор «Выбора Софи» выбирает в качестве героини, узницы Аушвица, польскую католичку? Здесь решение писателя никоим образом не противоречит исторической действительности. Это правда, но вся ли это правда, достаточно ли она показательна? И снова вопрос: по правилам литературы разве герой должен соответствовать статистической норме? По законам литературы, если Бовари не самая типичная французская женщина, а Каренина не самая типичная русская, то почему Софи Уильяма Стайрона должна быть представительницей преобладающей части обитательниц Аушвица? Есть ли ответственность воображения — а оно автономно — перед демографическими данными? Или спросим иначе: есть ли ответственность у индивидуального страдания перед нормой? И осмелится ли личность, воплощающая норму, дискредитировать, умалить или опорочить страдания одной женщины?
Теперь обратимся к «Чтецу» Бернарда Шлинка, роману, написанному судьей, профессором юриспруденции Берлинского университета. Рассказчик — студент-юрист, он выведен как сознательный представитель «второго поколения» — детей тех, кто был ответственен за нацистский режим. История начинается после войны, когда умный мальчик-подросток, будущий студент-юрист, неожиданно заводит дружбу с кондукторшей трамвая, женщиной намного его старше. Они совсем разные люди, но быстро становятся любовниками, и их роман развивается необычно, с большой долей романтики: с нежными и живописными сценами, например, когда в голландском интерьере мальчик читает женщине вслух. Только много лет спустя выясняется — на суде над военными преступниками, — что женщина неграмотна. Выясняется и кое-что еще: она была эсэсовкой, охранницей в лагере, где уничтожали евреев. Ничего не подозревающий юноша в объятиях скрывавшей свое прошлое нацистки: на этот ретроспективный образ неизбежно падает тень того, что некоторые называют нацистским порно.
Размышляя о трудном положении, в котором оказались молодые немцы, когда их страна потерпела поражение, рассказчик спрашивает: «Что нужно было делать нашему второму поколению, что ему было делать, зная обо всех ужасах истребления евреев?.. Надо ли нам было просто молчать, мучаясь отвращением, стыдом, виной?» «Наши родители, — объясняет он, — исполняли в Третьем рейхе разные роли. Некоторые из наших отцов были на войне, двое или трое как офицеры вермахта, один — как офицер СС. Некоторые занимали посты в судебных органах или в местных органах власти. Среди наших родителей были также учителя и врачи <…> высокопоставленный чиновник из Министерства внутренних дел».
Одним словом, это было образованное поколение. К тем, кого перечислил рассказчик, можно добавить прозаика и драматурга Геббельса, высокопрофессионального архитектора Шпеера, и, возможно, Геринга, коллекционера — или мародера, — умевшего распознать шедевр. Ничего удивительного тут нет. Перед второй мировой войной жители Германии считались самыми образованными в Европе, в стране был самый высокий уровень грамотности. Однако сюжет книги Шлинка строится не на столь типичной для Германии грамотности, а на аномальном случае неграмотности, который и сам писатель считает странным.
И эта странность становится исходной посылкой, мотором романа Шлинка: женщина не умела читать, поэтому не смогла узнать из газеты, что на фабрике требуются работницы, и вместо этого попала на службу в страшный лагерь. После войны, когда она предстает перед судом, рассказчик признает, что она виновна в чудовищном преступлении, но он также верит, что ее неграмотность в какой-то степени смягчает ее вину. Умей она читать, она бы стала работницей на фабрике, а не пособницей убийств. Ее преступления — случайность по причине неграмотности. Неграмотность — ее оправдание.

Бернард Шлинк в выставочном зале в Сен-Поль-де-Вансе.
Лазурный Берег. Франция.
2005 год
Творческое воображение снова требует ответа на вопрос: обязан ли писатель изображать типическое? Если в Германии была практически поголовная грамотность, можно ли винить роман, созданный по законам литературы, в том, что он обращается к нетипичному? Писатель — не социолог, не журналист, не демограф, не имитатор действительности; и неважно, что до нелепости нетипичное оказывается в произведении, написанном представителем второго поколения, мучающегося стыдом и угрызениями совести, причиной оправдания. Персонажи появляются по собственной воле, в любом виде, один за другим; и права воображения совсем не таковы, как права истории. Художественное произведение по определению не может предать историю. И не следует ожидать, что роман будет фиксировать все с точностью кинокамеры.
Если и есть ответ на этот аргумент (а это сильный аргумент), то искать его нужно в намерении автора. Намерение почти всегда очень личное, даже тайное дело, мы можем его так и не узнать. К тому же мотивация бывает не всегда ясна даже самому писателю. Впрочем, если роман подается нам как произведение, сознательно ориентированное на историю, может показаться, что между историей и воображением намеренно наведены мосты и цель состоит именно в наведении мостов, а роман построен так, чтобы поместить человеческий материал в исторические рамки, тогда аргумент об автономности литературы отпадает и права истории могут проявиться в полной мере. Задача истории — исследовать мотивы, и тут возникает подозрение, что Софи в романе Стайрона была задумана не как вольный художественный образ, но как намеренно символическая фигура — скажем, вроде Анны Франк; что образ неграмотной женщины в романе Шлинка осознанно или нет выражает желание отвлечь от виновности образованных представителей нации, знаменитой своей Kultur[10].
Все, что простодушно фиксирует камера, — пылающие молитвенные дома евреев, пылающие на кострах еврейские книги, униженные еврейские отцы семейств, запуганные еврейские дети, заваленные телами евреев рвы — касается судьбы евреев в Европе ХХ века. Это застывшие картинки. В менее стабильном мире слов жуткие слоги слова «Аушвиц» безоговорочно отражают намерение — и способы — стереть с лица земли всех евреев до единого — от новорожденных до угасающих стариков в приютах. Порой забывают, что Нюрнбергские законы и «окончательное решение» — основополагающие элементы, с которых начался Холокост, — были направлены против евреев, и исключительно против евреев. В январе 1939 года Гитлер в своей речи предвкушал «уничтожение [Vernichtung] еврейской расы в Европе»; сказано яснее ясного, и благодаря этой ясности была уничтожена треть еврейского населения Земли.
Но Холокост — это не только уничтожение человеческих жизней. Рвение, которое проявлял немецкий народ при нацизме, потребовало множества жертв, и, следует с горечью признать, поляки пострадали в числе первых. Не будем заблуждаться, не будем умалять страдания любого народа. При нацистах погибло одиннадцать миллионов человек, однако не все из этих одиннадцати миллионов были жертвами «окончательного решения». Нельзя уравнивать смертоносную ярость антисемитизма и раны, хотя бы и смертельные, полученные вследствие оккупации и войны. Вторжение в Польшу и ее оккупация были чудовищной жестокостью, но Холокост — это вам не вторжение и оккупация одного народа другим. Есть разница между наглым захватом страны (Польши, Чехословакии, Голландии и так далее) и последовательным истреблением целой цивилизации. После немецкой оккупации польские земли, язык, церковь не прекратили своего существования. Холокост определяют не только убийства, но и их неизбежные следствия: полностью были стерты с лица земли еврейские учебные заведения, библиотеки, общественные и религиозные организации — весь огромный древний организм, духовный и интеллектуальный, еврейской цивилизации в Европе.
Аушвиц — кладбище этой цивилизации (кладбище, на котором нет подобающих людям могил), и в этом глубинный смысл идеологии лагерей смерти. Аушвиц представляет собой конец не просто еврейского общества и культуры, но и европейской еврейской души. Так как же можно было избрать олицетворением Аушвица что-либо, кроме как занесенные в скрижали, исторически неоспоримые принцип и воплощение «окончательного решения»? Оккупация Польши немцами привела к порабощению, издевательствам, убийствам; это было страшное зло; это заслуживает собственной страницы в истории, отдельного поминовения. Но это было не «окончательное решение». Попытка связать эти два явления — уничтожение всех следов еврейской цивилизации и то, что претерпела Польша при немецкой оккупации, — может только ослабить, затенить и окончательно исказить истинную природу Холокоста.
В таком случае Софи — не столько индивидуум, сколько контриндивидуум. Она не столько персонаж романа, сколько подспудный полемический ход, отвлекающий нас от итогов. Вера и культура польских католиков не были верой и культурой, на которые были нацелены однозначные догмы немецкого плана Vernichtung. Софи Стайрона уводит в сторону от полного уничтожения еврейского культурного присутствия в той Польше, в которой сохранены религиозная и общественная жизнь.
И если писатель изображает в своем романе поколение, которое соучаствовало в геноциде евреев, поскольку среди его представителей было множество судей, врачей, адвокатов, учителей, государственных чиновников, военных и так далее, что мы должны думать, когда он сочиняет сказку о немецкой жестокости, обосновывая ее вызывающей жалость неграмотностью? Кто не проникнется жалостью к неграмотной, даже если она — из преступных эсэсовцев? А просили ли нас когда-либо прежде, в литературе, да и в жизни, проникнуться жалостью к участнику нацистских зверств? Здесь снова перед нами подспудно риторическое произведение, которое отвлекает нас от итогов. Жечь книги приказывали не неграмотные немцы.
Во имя самоценных прав литературы, во имя возвышенных прав воображения аномалия стирает память, аномалия замещает историю. В начале было не слово, а камера — и в то время, в том месте камера не обманывала. Она видела то, что следовало видеть. Слово пришло позже, и в некоторых случаях оно пришло не просвещать, а извращать.
Перевод с английского Веры Пророковой
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
[1].
9 ноября 1938 года прошли погромы по всей Германии
(Хрустальная ночь).
[2]. Эли Визель (р. 1928) — писатель и журналист. Был узником Аушвица, в настоящее время живет в США.
[3]. В фильме американского режиссера и актера Мела Брукса (р. 1926) «Всемирная история. Часть первая» (1981) действие переносится из каменного века в Древний Рим, а затем во Францию конца XVIII века.
[4]. Орентал Джей Симпсон (р. 1947) — американский футболист. Был обвинен в убийстве бывшей жены и ее друга и оправдан невзирая на улики.
[5]. Так прозвали одного из известных своей жестокостью охранников концлагеря Треблинка.
[6]. «Форвард» — газета американских евреев, издается в Нью-Йорке.
[7]. Роман воспитания (нем.).
[8]. Под «окончательным решением еврейского вопроса» нацисты подразумевали планомерное уничтожение еврейского народа.
[9]. «Lebensborn» (нем. «источник жизни») — организация, основанная в 1935 году Генрихом Гиммлером, занималась устройством детей арийского происхождения в специальные приюты.
[10]. Культура (нем.).