[ << Содержание ] [ Архив ] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2002 КИСЛЕВ 5763 – 11(127)
ВАРШАВА, МАРТ 1968 ГОДА
В. Кардин
Целыми днями слонялся я по варшавским улицам, вслушиваясь в завораживающую польскую речь...
Мой словарный запас чуть-чуть пополнился, и я уже мог оценить анекдот о трамвайном маршруте, который почти ежедневно проделывал пешком.
Охота к перемене мест
 Не было у меня предчувствия, ожидания чего-то необычного.
Напротив, я отправлялся в Польшу с надеждой на минимум каких-либо событий,
сюрпризов. Да и откуда им взяться в едва знакомой стране среди людей, чаще
всего не очень-то склонных откровенничать с чужими. А чужим я уже здесь
побывал, когда в войну наша дивизия, преодолев залитые дождями и кровью
Карпаты, вышла в южную Польшу и, переводя дыхание, глазела по сторонам.
Возможностей озираться хватало. Не хватало возможностей понять. И не только
из-за туго дающегося, несмотря на славянские корни, языка.
Не было у меня предчувствия, ожидания чего-то необычного.
Напротив, я отправлялся в Польшу с надеждой на минимум каких-либо событий,
сюрпризов. Да и откуда им взяться в едва знакомой стране среди людей, чаще
всего не очень-то склонных откровенничать с чужими. А чужим я уже здесь
побывал, когда в войну наша дивизия, преодолев залитые дождями и кровью
Карпаты, вышла в южную Польшу и, переводя дыхание, глазела по сторонам.
Возможностей озираться хватало. Не хватало возможностей понять. И не только
из-за туго дающегося, несмотря на славянские корни, языка.
Страна эта яростно сопротивлялась немецкой оккупации. Действовали две зачастую враждующие силы – промосковная Армия Людова и пролондонская Армия Крайова. Однако почему АЛ враждует с более сильной АК, ежели наша страна сражается против Германии в союзе с Англией и США?
Самих поляков терзали вопросы: кого и как станет поддерживать новая власть, доставленная из Москвы?
Однажды субботним вечером в домик на окраине Едличе, где мы обитали, стараясь не слишком стеснять хозяев, нагрянули четверо поляков. В сумке у одного – бимбер (самогон), кошанка (кровяная колбаса) и еще что-то из закусок. Визит неспроста. Гости хотели уразуметь, что ждет страну и их самих. Грозят ли колхозы?
«Встреча в верхах», боюсь, не слишком удовлетворила пришельцев. Бимбер не мог размыть языковой барьер, преодолеть настороженность в вопросах, недосказанность в наших ответах. Да и много ли понимали мы сами, пехотные офицеры с маленькими звездочками на погонах?
Приглядчивость, настороженность давали себя знать и когда я спустя почти четверть века приехал в гости к варшавскому другу Земовиту Федецкому – специалисту по советской литературе, сотруднику журнала «Твурчость».
Целыми днями слонялся я по варшавским улицам, вслушиваясь в завораживающую польскую речь. Выдохнувшись, шел в редакцию за Федецким, и мы отправлялись обедать. Мой словарный запас чуть-чуть пополнился, и я уже мог оценить анекдот о трамвайном маршруте, который почти ежедневно проделывал пешком. Сперва «Москва» (кинотеатр), потом тюрьма (на улице Раковецкой) и, наконец, «петля», то есть конечная остановка.
Дальше анекдотов редко когда шло. Хотя друзья Федецкого по редакции и по студенческому Сатирическому театру – он был одним из его руководителей – вряд ли испытывали ко мне персональное предубеждение. Но я – невольный посланец могучего соседа, бесцеремонно вторгшегося в судьбу страны с трагической историей буферного государства.
Федецкий поддержал вдруг осенившую меня идею махнуть в какой-нибудь Дом творчества. Путевки стоили гроши, и мой выбор пал на Крыницу – холмистый городок на юге.
Утром, еще до рассвета, садишься в автобус, вечером, уже затемно, прибываешь в пункт назначения.
Все так и шло. Не считая происшествия в городе Кельце, где я на стоянке покинул автобус, выпил чашечку кофе и, чувствуя свою самостоятельность, вернулся на место. Полез в набитый под завязку портфель за очками. Нет. И под сиденьем нет. И за спинкой. Ладно, не беда. В пути отыщу.
В пути обнаружилось также исчезновение «паркера» и бритвы «Браун».
Все три предмета были необходимы. Их покупка наносила удар по моему бюджету.
В немноголюдном Доме творчества это стало сенсацией номер один. У «пана с Москвы» такая пропажа! И, конечно же, в «холерных Кельце».
Я смиренно выслушивал соболезнования, но не мог взять в толк, почему Кельце – «холерные».
Сознавая свою языковую неполноценность, я избегал вопросов. Так или иначе выяснятся причины уклончивости сострадающих мне собеседников. Изволь привыкать: в чужой стране нет у тебя права на чью-то откровенность. Война создавала ощущение единодушия. Но и оно не исключало недоверия.
Однако именно в Крынице, уже забывая Кельце и их «холерность», я получил ответ, относительно близкий к правде. По крайней мере, по тем временам, когда искренность была не в чести при отношениях с нашими собратьями по так называемому «социалистическому лагерю».
Пани Мария, профессор-историк, слыша в очередной раз, как мне талдычат про «холерные» Кельце, дождалась, пока мы остались вдвоем и докторально объяснила: в этом городе после войны учинили еврейский погром. Такой позор не согласуется с благородным образом народа, который дольше и упорнее любого другого сражался с нацизмом, поддерживал восстание еврейского гетто в Варшаве, сохранил о нем трепетную память. И так далее, и тому подобное.
Пани профессор сносно изъяснялась по-русски. Читала московские журналы, прежде всего «Новый мир», знала о передрягах, уготованных ему и его авторам, о шумихе, раздутой вокруг статьи, где я пытался доказать, что и для истории и для литературы, обращающейся к ней, факты важнее легенд.
Пани профессору такая точка зрения была близка. Однако прежде чем заняться историей, она, подобно многим другим, заплатила дань легендам.
Сидя в гостиной, мы попивали кофе, и я слушал рассказ женщины, в молодости оставшейся вдовой с малолетней дочерью. Муж – видный коммунист, после присоединения восточной Польши к Советскому Союзу депутат Верховного Совета, находился в Москве, когда Германия напала на СССР, вскоре был подготовлен к заброске на родину, но погиб на Внуковском аэродроме при неудачном взлете самолета... Пани Мария, оставив дочь на попечение своей матери, ушла в лес, в отряд Армии Людовой, потом занимала кабинет в Центральном Комитете, потом, наглядевшись и наслушавшись всякого, вышла из партии, защитила диссертацию... И так далее, и тому подобное.
Погром в Кельце – не только трагедия евреев, но и несмываемое пятно в истории послевоенной Польши.
Кто учинил? О, это – одна из тайн, какими богато недавнее прошлое страны. И настоящее. Не надо удивляться. Многое из свершающегося тоже составляет тайну.
Так все-таки кто же устроил погром?
По официальной версии, люди из АК. Почему «по официальной»? Потому, что необходим кто-то, на кого власть списывает свои оплошности, неудачи, провалы.
Обычно для этого всего удобнее евреи. Но не спишешь же на них еврейский погром. Остается Армия Крайова, вечно в чем-то виноватая.
Пани профессор вздохнула и отодвинула пустую чашку, положив на нее сверху ложечку. Если бы ее Тодек не погиб на «холерном» советском аэродроме, он бы этого не допустил.
Чего, простите, «этого»?
Ни погрома, ни секретного рассл
едования.
Я молчал. Пауза затянулась. Ее нарушила сама пани Мария.
Раньше она часто думала: «Будь Тодек жив...» Сейчас уже не думает. Его бы... в русском языке есть выразительное слово... Да, да, именно «схарчили». Русский язык так богат...
Народная республика – она же «Панская Польша»
(перемещение в пространстве и времени)
Рукопись, прихваченная мной в Крыницу и не соблазнившая келецкого похитителя, ни малейшего отношения к Польше не имела. Мне и в голову не приходило писать что-либо об этой стране, погружаясь в ее недавнюю историю, вспоминая фронтовые будни.
Но решали тут не столько личные намерения, даже не напор и укоризна однополчан.
В 60 – 70-е годы, повинуясь каким-то негласным законам, ожила память о войне. Возникла уверенность, потом выяснится, иллюзорная: бьет час правды и справедливости; если не сейчас, то когда же, если не мы, то кто же... Из этого, среди всего прочего, следовало: надо сказать о людях, которые, подвергая себя смертельному риску, спасали советских раненых. А в Саноке, ненадолго захваченном противником, и наших медсестер. Для расправы много времени не требуется. В Кельце тоже, кстати сказать, управились быстро...
Вопреки намерениям, вопреки зароку, данному на исходе марта 1968-го, я снова отправлюсь в Польшу, снова открою ее для себя, убеждаясь, что наши суждения о ней и ее истории зачастую в лучшем случае приблизительны.
«Панская Польша» слыла извечным недругом страны Советов. «Белополяки» – расхожее клеймо. (Впрочем, и финны в 1939 году обратятся в «белофиннов».) Неприязнь к полякам отличалась особой стойкостью. Даже к доказавшим свои просоветские убеждения. Польскую компартию распустили. Втихаря из Красной Армии уволили большинство командиров-поляков. В 1939-1940 годах после раздела страны с Гитлером войдут в обыкновение массовые депортации. Плюс к тому сокрытие правды об Армии Крайовой, Катыни, Варшавском восстании и «малой гражданской войне» мирного уже времени.
Когда в конце сорок четвертого года в Едличе нам нанесли субботний визит четверо поляков, надеясь в застольной беседе с «товажищами лейтенантами» прощупать обстановку, о которой сами «товажищи» имели смутное представление, я успел шепнуть приятелям: негоже будет, коли, тяпнув, мы запоем «помнят псы-атаманы, помнят польские паны...»
Помнить кое-что не грех было, к слову сказать, нам самим.
Бредовая идея устроить прорыв через «бело-панскую» Польшу в «пролетарскую» Германию и таким манером двинуть на Запад мировую революцию приказала долго жить.
Польский революционный комитет (Польревком), созданный на волне наступления Красной Армии, возглавляемый Ю. Мархлевским, Ф. Дзержинским и другими поляками-москвичами, когда это наступление сменилось отступлением, прекратил существование.
После различных событий и дипломатических ухищрений
польско-советская граница в конечном счете установилась по 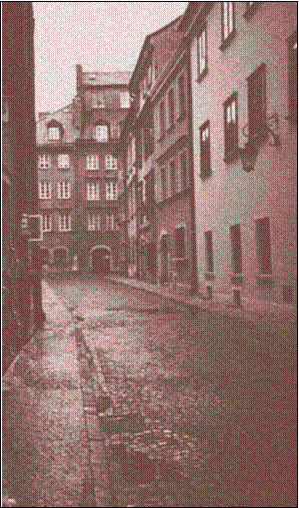 «линии
Керзона».
«линии
Керзона».
Идея интернационализма, в разное время привлекавшая многих, в конце концов безжизненно повисла в воздухе. Еще одна утопия, сулившая сказочную жизнь, но лишенная шансов сбыться. По крайней мере, в том виде, в каком ее взлелеяли коминтерновцы, ничему не научившиеся на опыте Польревкома и других аналогичных затей.
...Мне предстояло вникнуть в запутанную биографию с множеством затененных мест, берущую начало на варшавской окраине. В биографию генерала Вальтера (Кароля Сверчевского), совмещавшего коминтерновскую деятельность с войсковой разведкой, командира интернационального соединения в битвах на Пиренейском полуострове. Прославленный герой испанской войны, «таинственная сила Коминтерна», как утверждала английская газета, он в своих донесениях, не стесняясь, писал и о собственных промахах и об ошибках наших советников, о национализме, разъедавшем интернациональные бригады. О «мелкой, мерзкой вонючей грызне и национальном превосходстве одних наций над другими».
Он не отказывался от утопических идей, поддерживая свою веру водкой – советской, испанской, польской. Но не желал, пускай этого и требовали, делить соратников и подчиненных по национальному признаку.
Уже после войны Сталин, вызвав Вальтера для доверительной беседы, предложил ему, вице-министру обороны Польши, портфель министра общественной безопасности. Он вытянулся, стукнул каблуками надраенных сапог (чистку никому не доверял, только собственноручно): «Я всегда был солдатом. Но никогда полицейским. Избавьте меня».
Избавили. А вскоре, в марте сорок седьмого, он погиб в Бещадах при неясных по сей день обстоятельствах.
Министерство общественной безопасности, ведя «малую гражданскую войну», боролось с поляками, причастными к Армии Крайовой. Едва ли не все департаменты этого ведомства возглавляли евреи, прошедшие выучку на Лубянке и в ее филиалах. Как раз в то время, когда на Лубянке и в филиалах велась «ариезация», то есть чистка по пятому пункту.
Обвинение «аковцев» в погроме особенно гнусно, ибо Армия Крайова пыталась – не всегда это удавалось – спасать обреченных жителей гетто. В годы войны Делегатура польского правительства в изгнании (в Лондоне), непосредственно ведавшая АК, следила и за действиями нацистов, уничтожавших евреев. Слежка возлагалась на Временный комитет помощи евреям и «Жиготу» – совет такой помощи.
Не берусь судить о масштабах и результатах этой деятельности. Но названные структуры говорят сами за себя. Говорит и то, что они замалчивались.
Подобных им в нашем Центральном штабе партизанского движения не имелось.
В Польше, когда она слыла по советским клише «панской», около 40% составляли национальные меньшинства, чувствовавшие себя, быть может, не всегда пасынками, но и не родными детьми.
В Польше, ставшей «Народной республикой», этот процент снизился. Восточные земли, заселенные преимущественно белорусами и украинцами, отошли к Советскому Союзу. Новым территориям ничего не оставалось, кроме как разделить «великое счастье» коллективизации. В самой же «Народной республике» до колхозов все-таки не дошло. Польские мужики, сознавая себя «панами», устояли перед артельными соблазнами и «соборностью», измеряемой в трудоднях.
Возвращение
Обратный путь из Крыницы в Варшаву обошелся без осложнений.
Три недели в Доме творчества были не вовсе напрасны. Имею в виду не только рукопись в злосчастном портфеле. Из отрывков разговоров, недосказанных фраз складывалось впечатление о нервозности в обществе, среди интеллигенции.
Девчонка-старшеклассница, учившаяся в московской школе неподалеку от моего дома, рассказывала о передрягах своего отца. Полковник Войска Польского, он получил направление в нашу Академию Генерального штаба. Поэтому жена и дочь тоже временно перебрались в Москву. Дочь, не овладевшая русским в варшавской школе (обязательный предмет), после пяти-шести московских месяцев запросто лопотала на великом и могучем.
В Крынице, взмахивая руками «Боже коханый!», рассказала мне историю отца.
После возвращения он, успешно кончивший курс в нашей Академии, получил высокую должность в Войске Польском. А вскоре без комментариев был отправлен в отставку. И теперь профессорствует в Варшавском университете.
Если верить дочери, начальству пришлась не по нраву его самостоятельность, усилившаяся благодаря учебе у головастых московских генштабистов (кое-кого из них я знал, мой незабвенный дружок Коля Пророков тоже вел занятия в Академии).
«Зачем нужны самостоятельные люди?! Особенно в Войске!» – взмахивала она руками, апеллируя к Всевышнему.
Пустили слух, будто у отца еврейская кровь. Но он, как и мамуся, чистокровные поляки. Только терпеть не могут антисемитов, и папуся не скрывал этого, когда увольняли из Войска его друга, боевого офицера. Нечто отдаленно сходное проскальзывало в других рассказах. И в объяснениях пани Марии.
Судя по всему, наверху идет борьба за власть. (Тоже мне оригиналы.) Наступают националисты во главе с генералом Мечиславом Мочаром (прежде я не слышал этой фамилии). Отбиваясь, первый секретарь ЦК Владислав Гомулка, уже хлебавший тюремную похлебку в послевоенной Польше, лавирует, говорит о «пятой колонне», имея в виду пятый пункт.
Междоусобицы наверху отдавались брожением в обществе, недовольством молодежи.
Земек Федецкий с неизменной сигаретой и пританцовывающей походкой, расхаживая по квартире на Аллее Неподлеглости, 130, вносил ясность. Что-то поддерживая в моих предположениях, что-то отвергая. Он знал кое-кого из молодых «командос» (так их называли), имел мнение о каждом. Оно могло и не совпадать с общепринятым, но всегда имело основания. Однажды мы собирались навестить Модзелевского, но из-за чего-то не получилось.
Страсти распалялись вокруг спектакля «Дзяды» по Адаму Мицкевичу в «Театре народовом». Начальство восприняло его как антирусский и, следовательно, антисоветский. С таким же успехом, вероятно, можно «Ивана Сусанина» считать антипольским.
Нелепую, гнусную манеру переносить на искусство сиюминутные политические противоречия, выискивать в художественном тексте намеки на нечто злободневное Польша переняла у нас. Но мы уже с этим смирились. С цензурой, запретами в литературе, театре, кино. Поляки то же самое воспринимали гораздо болезненнее. Когда «Дзядов» сняли с репертуара, студенты устроили демонстрацию перед театром и у памятника Мицкевичу.
Это произошло в самом конце января, для полной точности – 30-го числа. А в середине февраля протест против запрещения «Дзядов», подписанный более чем тремя тысячами человек (главным образом студентами Варшавского университета), передали маршалу Сейма.
Особую напряженность событиям сообщала весть: снятия спектакля требует советское посольство. Едва ли не все дурное, любое ретроградство приписывали как само собой разумеющееся советскому посольству, занимавшему особняк (позже едва не квартал) на аристократической Бельведерской улице.
Уже после моего возвращения из Крыницы, в самом конце февраля на чрезвычайном заседании варшавского отделения Союза польских писателей принимается резолюция, осуждающая запрет «Дзядов».
Разумеется, мне далеко не все становилось известным. Я не считал возможным присутствовать на писательских собраниях и знаю о них с чьих-то слов. Кроме Федецкого встречался с Анджеем Дравичем и Виктором Ворошильским. (Дружба с Виктором, выдержав испытание долгими промежутками между встречами, сохранилась до последних дней его самоотверженной жизни.)
События меж тем шли по нарастающей: 4 марта было официально объявлено об исключении из Варшавского университета студентов истфака Адама Михника и Генрика Шлейфера. За участие в демонстрации 30 января. Замедленная реакция – миновало свыше месяца – подтверждала кляузную сложность согласования убогого решения. Писатели реагировали быстрее. Спустя сутки они обратились к ректору университета с просьбой не наказывать январских демонстрантов.
В эти дни среди студенческих имен промелькнуло одно, отдаленно мне знакомое.
 «Родственники за границей»
«Родственники за границей»
(перемещение в пространстве и времени)
Без этого пункта – про родственников за границей – не обходилась ни одна уважающая себя анкета. Что в наши дни способно ее заменить, ума не приложу.
Возможно, безотчетный страх перед коварным пунктом побуждал забывать о кровно близких чужестранцах.
Вечером 7 марта я отправился к двоюродному дяде. Отродясь его не видел, ничего о нем не знал, кроме того что он, седьмая вода на киселе, полковник Войска Польского, а его дочь – одна из первых закоперщиц возроптавшего студенчества Варшавы.
Это подтверждалось всем происходящим в квартире полковника, растерянно озиравшегося по сторонам. Приходили и уходили студенты, неумолчно звонил телефон. Кто-то с кем-то о чем-то уславливался.
Судя по торопливым, сбивчивым разговорам, завтра в двенадцать в университете митинг. Почему бы нет, если Международный женский день?
Не надеясь и не пытаясь узнать больше, чувствуя свою неприкаянность, я покинул полковничью квартиру...
Минувшей весной в Москве проводилась международная демократическая конференция женщин. Из США прилетела директор Вашингтонского института, ведавшего этими проблемами. Спустившись по трапу, госпожа директор между прочим спросила у почтительно встречавших: можно ли ей каким-нибудь образом узнать телефон господина Кардина. Одна из встречавших ответила, что нужный номер у нее в записной книжке.
Через час мне позвонила Ирена Лясота. На следующий день мы с ней сидели в баре Дома журналистов. Ирена предпочла нашу встречу очередному заседанию. С самого начала она определила степень родства и припомнила минуты нашего телефонного разговора незадолго до ее ареста. Сотрудник, производивший арест, поинтересовался, кто звонил и разговаривал с ней по-русски. Она ответила: такого звонка не было...
Миновало каких-нибудь тридцать четыре года, и передо мной сидела ослепительно красивая, умная кузина, настаивавшая не только на родстве, но и на внутренней близости.
«Исходная» фамилия ее родителя – Гершович. Как и девичья фамилия моей бабушки со стороны отца. Та последние свои дни провела у младшей из дочерей, жившей метрах в пятистах от Дома журналистов. Здесь, в комнате гигантской коммуналки, она скончалась накануне войны. Полукругом перед кроватью замерли мой папа, дочери и старшие внуки. Отсутствовала одна из внучек – отбывала лагерный срок «за политику». То есть ни за что. И уже не вернулась. Не было и одного из внуков – отбывал срок за уголовщину. То есть за дело. Вернулся. Позже он, король Тверского бульвара, получил смертельный удар финкой. «Своя своих не познаша».
Довольно обычная московская семья: двое врачей, одна художница, один самородок-математик, один герой гражданской войны, посланный солдатами в Смольный для беседы с Лениным (через 12 лет после беседы вышел из партии, лишился комдивовских «ромбов», демобилизованный исчез из поля зрения...).
«Боже коханый!», как восклицала моя юная собеседница в Крынице. Если нам суждено еще встретиться с Иреной, расскажу ей об этом клане и о последних минутах бабушки. Она наставляла каждого из пришедших. Мудрая и дальновидная, оправданно сомневалась в мудрости и дальновидности потомства. Говорила коротко, определенно. Не пропустила никого. Глубоко вдохнула и тихо выдохнула.
...Отец Ирены взял псевдоним или сменил фамилию подобно иным польским коммунистам, когда-то перешедшим на нелегальное положение, подобно иным офицерам Войска Польского. Ни Ирена, ни кто-либо еще в семье не скрывал прежней фамилии. Ее маме, диктору Варшавского радио, польке, по ходу передачи предложат листок с гадостями о дочери. Текст следовало огласить среди новостей дня...
Когда муж умер, пани Лясота покинула свою ставшую ненавистной ей страну. Переехала к дочери. Умерла в Америке.
Ирена посвящала меня в семейные дела. Говорила просто и доверительно. С польским акцентом, неизменно меня умилявшим. В последние годы, когда ушли едва ли не все мои друзья-сверстники, я вдруг обрел родную душу, прилетевшую из-за океана.
«Правда ты так думаешь? – временами переспрашивала она и удовлетворенно добавляла: Я думаю так же».
«Ты должен об этом написать. О восьмом марта. Прошу тебя сказать, что я – твоя кузина».
Ей уже было известно, что в шестьдесят восьмом я перенес инфаркт.
«Это после того, что увидел восьмого марта?»
«Ты слишком хорошо обо мне думаешь».
«Ты – мой кузен».
Мы касались того, другого, третьего. И все было одинаково важным. Хотя ни она, ни я не принадлежали к тем, о ком говорят: «душа нараспашку». Впрочем, и скрытность – тоже не отличительная наша фамильная черта.
Уже попрощавшись и направляясь к метро, я оглянулся. Она стояла и смотрела мне вслед.
«Международный женский день»
Раньше, припоминая этот день, я давал понять, что на митинг во дворе Варшавского университета попал случайно. Шел среди ормовцев (дружинников) с красно-белыми повязками поверх рукава пальто. В действительности подобно им я знал, куда направляюсь и к какому часу.
У ворот автобусы освобождались от таких же ормовцев и тех, кого в Польше именовали «тайняками», то есть гэбэшниками в штатском. Но на территорию университета приезжавшие не спешили.
Я не ждал.
Улица уже освободилась от снега и наледи. Но во дворе – талые сугробы, лужи. Мальчишки дарят девочкам букетики – 8 марта. В Польше и без праздников, без особого повода преподносят цветы. Даря их, мальчишки чувствуют себя взрослыми. Да и девчонка держится точно пани.
«Боже коханый», подумал я с высоты своего возраста, что же вам уготовано сегодня, куда денутся эти букетики?
Взгромоздившись на сугроб, Ирена читала обращение. На ней, мне показалось, были ватные брюки. Выходит, она не исключала избиения. Заметил ватные брюки и на других студентках.
Обращение протестовало против репрессий к соученикам-защитникам «Дзядов», против исключения из вуза Михника и Шлайфера. Еще что-то не расслышанное и не схваченное мною.
То ли росла численность студентов, то ли их уже теснили ормовцы, приехавшие на автобусах и пришедшие пёхом. Разгружались автобусы и у боковых ворот. Еще не составляло труда покинуть двор. Но никто не пытался.
Переругиваясь с ребятами, ормовцы постепенно оттесняли их во внутренний двор между двумя университетскими корпусами. Полемика, насколько мне дано судить, носила довольно безобидный и не слишком осмысленный характер.
«Мы работаем, вкалываем, а вы на наши деньги устраиваете демонстрации». – «Как же вы работаете, если средь бела дня толчетесь в университете?»
Перевод, конечно свободный. Цель пикировки – распалить ненависть дружинников, подготовить их к главной части акции. Для того и выталкивали студентов в задний двор. Здесь свобода их маневра меньше. Нападающим легче выбирать жертвы, избивать. Операция не отличалась сложностью, но проводилась целенаправленно. Мобильных телефонов, портативной радиоаппаратуры еще не придумали.
Зато у ормовцев появились палки, видимо, доставленные в автобусах. Палки пускали в ход избирательно. Чаще всего выхватывали из толпы девчонку. Два-три удара и отпускали.
Студенты остались без палок. Однако градус напряжения повышался. Девушка с яростно перекошенным лицом оказалась передо мной. Задыхаясь, выкрикнула:
«Сколько вам за это платят?»
«Мне никто ничего не платит».
Она остолбенела от русской речи. Что-то бормоча, ретировалась в толпу. Вместо нее рядом со мной возник мужчина не студенческого уже возраста. «Господин!.. Я буду вам переводить...». Назвал себя. Но я не разобрал ни имени, ни должности. «Господин» звучало странно. В Польше я не слышал этого слова, здесь довольствовались «паном».
Переводчик-доброхот ткнул пальцем в сторону балкона дальнего здания.
«Госпожа Ирена Лясота вручает требования студентов господину проректору...»
С этой минуты или чуть позже что-то изменилось. В руках у многих ормовцев теперь резиновые дубинки. Ожесточение возрастало. Переводчик мне втолковывал: делается опасно. И советовал уйти со двора. Я поблагодарил и остался. Мне ничто не угрожало. Меня не пытались ударить. Причиной тому, видимо, не только возраст, но и меховая ушанка, каких тогда в Польше не носили. Чужестранцев бить не полагалось. Зато со своими не церемонились и лупцевали все безжалостнее.
Двое-трое здоровяков вытаскивали из толпы девчонку, сноровисто обрабатывали дубинками и толкали обратно в гущу. С парнями поступали так же, но менее запальчиво.
Я оцепенел, прижавшись к каменной стене. Мои чувства не имели ничего общего с теми, что испытываешь на передовой, когда рядом падают бездыханные тела, когда всюду крики, стоны, свист пуль и осколков. Крутой командирский мат и предсмертные солдатские проклятия...
Но теперешняя моя неприкосновенность была чем-то досадной, оборачивалась какой-то моей виной. Какой? Голова, покрытая ушанкой, работала не лучшим образом. Я слишком много увидел. Да еще такого, чего не доводилось. Во что трудно поверить. Уже свыше трех часов я наблюдал нечто, отдающее садизмом, нечто запредельное. Даже если вспомнить про другие мерзости и зверства, явленные XX веком.
Одного этого дня, этого двора достаточно, чтобы предъявить обвинения не только устроителям и исполнителям, но и системе.
Шел четвертый час противостояния, силы усмирителей росли. Захлебываясь яростью, они, однако, не переступали обозначенную им границу. Не только убитых, но и тяжело покалеченных не было. Две или три машины «Скорой помощи» мирно дежурили возле боковых ворот.
В какой-то миг по невидимой и неслышимой команде ормовцы и переодетые милиционеры удовлетворенно отступили, стирая пот с разгоряченных физиономий. Выход через боковые, а, возможно, и главные ворота освободился. Парни, поддерживая друг друга, избитых студенток, потянулись на Краковское Предместье, на Новы Свят.
Меня не то чтобы подхватила волна. Я брел сам по себе взбаламученными варшавскими улицами, которые успел полюбить. Жена знакомого журналиста, в прошлом москвича, задыхаясь, размазывая по лицу слезы, спросила: не попадался ли мне ее сын?
Но он вроде бы учится в политехническом? Там тоже митинг, тоже кровавая баня.
Я прошел пешком часть пути. Потом у кинотеатра «Москва» сел в трамвай, миновав тюрьму на Раковецкой улице, доехал до Аллеи Неподлеглости.
Земовит нервно прохаживался по квартире. На университетском дворе, естественно, он не был. Но уже знал немало. Ночью, скорее всего, начнутся аресты. Он предупредил юных знакомых, живущих в общежитии (в Польше они называются «Домами студента»), что его комнаты к их услугам.
Во времена гитлеровской оккупации это служило неписаным законом. Как и укрывательство евреев. Мама Земовита, польская аристократка, устроила свой так называемый «конвейер». Доставала документы, транспорт. Земеку выпала роль сопровождающего. Однажды из-под брезента грузовика высунулся еврей, чтобы осведомиться, который час.
«Рядом с немецким КПП. Представляешь себе?.. Я до сих пор вздрагиваю, когда спрашивают о времени...
Мама удостоилась высшего израильского ордена».
«Сейчас орден нам не грозит».
«Еще не вечер. Нашим мудрецам (слово было другое, Земек, не злоупотребляя, владел русской ненормативной лексикой) предстоит как-то выкручиваться. Они пытаются выдавать Польшу за цивилизованное государство».
Позже пришли ночевать две второкурсницы. В «Доме студентов» на нашей Аллее Неподлеглости, напротив номера 130, где квартировал Федецкий, всю ночь не гас свет.
Утреннее телевидение оповестило: заваруха в университете, на Краковском Предместье и Новы Святе устроена «золотой молодежью». Иными словами, сынками и дочерьми партийно-государственной элиты. Не слишком изобретательно, однако в надежде ублажить низы. Потрафить рабочим, чьи митинги пройдут под девизом: «Студенты – за учебу, писатели – за перо». Забота и о молодежи, и о литературе.
Телефонные звонки уточняли: ночью прокатилась волна арестов. Накрыла Генрика Шлайфера. И еще кое-кого из «командос». Позже заметут Адама Михника.
К вечеру стало известно о студенческом собрании в университете. Обошлось, слава Б-гу, без ормовцев. Но едва ребята высыпали на улицу и направились к ЦК, милиция пустила в ход дубинки и слезоточивый газ.
Наконец, 11 марта газета «Слово повшехне», издаваемая прорежимной организацией «Пакс», учрежденной, как считается, не без помощи советской госбезопасности, открыла глаза на студенческие волнения. Виной всему сионисты. Статью обнародовали и другие газеты.
Кампания набирала силы. Печать, радио, телевидение соревновались в черносотенстве, травле интеллигенции. В игре на темных инстинктах. Как то делал Гитлер, ненавидевший поляков. Публикуются списки уволенных ответработников. Преобладают еврейские фамилии.
Наконец-то найдена черная сила, что воспрепятствовала расцвету социалистической Польши, вынашивала коварные планы и т.д. Армию Крайову более или менее оставили в покое. Антисемитизм универсальнее, у него многовековая история, не лишенная наглядности.
Студенты, однако, на эти приманки не клюнули и продолжали митинги. В Кракове поднялся Ягеллонский университет, в Люблине – университет имени Марии Склодовской-Кюри и католический университет. Забастовку во Вроцлавском университете поддержали преподаватели, ректор Альфред Ян. Когда ребята в Варшавской политехнике захватят учебные аудитории, жители столицы будут приносить им еду и цветы.
Студенческие манифестации охватили едва ли не все университетские города. Милиция не церемонится с демонстрантами, словно напоминая предостережения Шекспира: «Ид1 марта берегись». В уличном противостоянии верх обычно берет сила – дубинки, газ. В истории сила берет верх не всегда. Только – «Пока солнце взойдет, роса очи выест...».
Епископат Польши обращается с письмом к премьер-министру, требуя освободить арестованных студентов, не допускать жестокостей при разгоне демонстраций и вранья в прессе. Того же мнения в Сейме католическая группа «Знак».
Однако продолжается чистка вроцлавских вузов. Исключено 47 студентов, уволено 30 преподавателей, в том числе и ректор Альфред Ян.
В Варшавском университете закрываются наиболее крамольные факультеты – философский и экономический.
Между вчера и сегодня
Страна раскололась на два лагеря. И этот раскол останется, невзирая на команду «отбой!» и завершение антисемитской кампании. Дело сделано. В глазах мира Польша – носительница расистской идеологии. Польша, на территории которой Освенцим, назидательно превращенный в музей. Перед его воротами виселица. На ней кончил свои подлые дни комендант этой фабрики смерти. Дорожки Освенцима молча подметают розовощекие юноши и девчата из ФРГ, осуществляя «акцию искупления».
Нынешний польский президент Александр Квасьневский признает вину государства и народа за прежние черносотенные шабаши, за погром в Кельце, за такой же, но замалчиваемый погром в Едвабне, где крестьяне расправлялись со своими соседями, повинными лишь в том, что они евреи.
Это – мужественный шаг. Но достаточно ли его? По данным польского Института национальной памяти, ныне ведется следствие по 241 делу о нацистских преступлениях, по 836 делам о преступлениях коммунистических.
Покаяние президента и данные института охаивают даже в Сейме. Слишком велика заинтересованность в антисемитизме. Слишком сильно нежелание называть вещи своими именами, использовать терминологию, применяемую к третьему рейху.
Не сделан, по-моему, главный вывод, обязательный для любой страны. Антисемитизм не может служить предметом полемики, он может служить лишь объектом судебного разбирательства. Пока его обсуждают, о нем дискутируют, пока его явно или скрытно выгораживают в органах государственной власти, пока звучат погромные разглагольствования, Холокост – большой или малый – вполне вероятен.
Это ни в коем разе не препятствует критике политических действий и деятелей Израиля.
В Польше ведется следствие по делам о коммунистических преступлениях. Можно надеяться, что университетские события 1968 года не обойдены вниманием, как и убийства в Кельце и Едвабне. Имена сочинителей антисемитских статей должны быть оглашены и осуждены как имена учеников и продолжателей Геббельса.
У нас ничем подобным и не пахнет. «Коричневые» издания, организации фашистского толка не встречают ни малейшего сопротивления. Господствует уверенность, будто Нюрнбергский процесс не имеет к ним отношения.
Орден Мужества Татьяне Сапуновой – всего лишь жест. Пусть и красивый. Досадно, что президент, беседуя с Сапуновой, не нашел слов об антисемитских плакатах. Будто они сваливаются с неба, будто и впрямь нельзя положить конец этой мерзости, этому позору, в очередной раз доказывающему: личная преданность руководителей спецслужб президенту не возмещает недостаток у них профессионализма и, прошу прощения, ума. Не зря глава МВД уже стал героем анекдота.
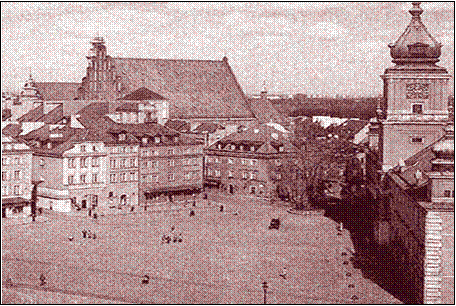 Президента не знакомят с нескончаемым потоком
антисемитских публикаций, книгами и газетами, продаваемыми на каждом углу...
Президента не знакомят с нескончаемым потоком
антисемитских публикаций, книгами и газетами, продаваемыми на каждом углу...
Люди, сопротивлявшиеся ормовцам в марте 1968 года, должны быть сегодня достойно отмечены. Среди них и моя кузина. Они, хотелось бы думать, – гордость страны, народа.
И еще один вывод из давних мартовских событий в Польше. Вряд ли стоило особые надежды возлагать на рабочий класс, представители коего пополняли ряды ормовцев. Не такой уж он отзывчивый, жаждущий социальной и этической справедливости. Скорее эту роль – лучше ли, хуже – играет интеллигенция. Ее передовая часть, свободная от классовых предрассудков и национальной спеси.
Завышение миссии рабочего класса – результат коммунистической пропаганды, а также искусства, особенно советского кинематографа, где у Ленина в 1917 году непременный друг и советчик пролетарий Василий, Сталин (фильм «Падение Берлина») связан нерасторжимым единством помыслов с рабочим Ивановым.
Естественно, польские рабочие были меньше сбиты с толку, меньше развращены, нежели их собратья в Советском Союзе, где выдумывали стахановское движение, всевозможные производственные начинания, трудовые рекорды и т.д., держа класс-гегемон на полуголодном пайке. Польские пролетарии сумели создать профсоюз «Солидарность» и обеспечить на президентских выборах победу гданьского электрика Леха Валенсы. Ему достало ума, житейской сметки полагаться не на «классовое чутье», а на дельных советников – интеллигентов, оппозиционно настроенных к просоветскому руководству.
...В воскресенье среди дня – телефонный звонок. Федецкий с обычной обстоятельностью называет кому-то спектакли Студенческого сатирического театра на ближайшей неделе.
«Да, да... нет, разумеется...» Попрощался. Вдруг замер. Сжал руками голову.
«Это же из Амстердама. Парень уехал. Но ему необходим репертуар своего театра. Своего...»
Назавтра я покинул Польшу. Варшавский март шестьдесят восьмого кончался.
Для кого-то кончался. А для кого-то будет длиться годами.
Уроки и итоги
(перемещение в пространстве и времени)
Не настаиваю, но порой мне думалось, что все эти потрясения, нелепости и подлости отдают импровизацией. Их планировали на ходу, озабоченные сиюминутным результатом, не тревожась о следующей неделе.
При одном из более поздних приездов в Польшу мне передали, что генерал Мочар, чья звезда закатилась, не прочь со мной повидаться. Я отказался. Возможно, поступил неверно. Однако не мог себя заставить. К тому же не верил в серьезность разговора.
Важнее, думаю, воспоминания и выводы тех, кто хлебнул лиха в марте, но в конечном счете вышел победителем, став созидателем достойного будущего страны.
 Адам Михник, главный редактор «Газеты
выборчей», наиболее популярной и влиятельной в нынешней Польше:
Адам Михник, главный редактор «Газеты
выборчей», наиболее популярной и влиятельной в нынешней Польше:
«Я очень благодарен этим... корешам генерала Мочара за урок, который они мне тогда преподали. Они раз и навсегда выбили у меня из головы всякие иллюзии относительно режима, на который работали. То, что они бьют, что моих приятелей, ровесников очень жестоко бьют (а сообщения о неслыханной жестокости этой полицейской, палочной операции повторялись в каждом рассказе), было для меня шоком. С другой стороны, я чувствовал, что произошло нечто невероятно важное, что вот значительная часть нашего поколения как бы отказалась повиноваться и решила, хоть на время этого митинга, жить на свой страх и риск и говорить своим голосом, от своего имени... Когда я получил газеты – прочитал и вижу вдруг, что польская пресса говорит на языке гитлеровского “Штюрмера”, на языке московских процессов. В тюрьме я пережил такой момент, когда следователи на допросах унижали меня, обращаясь на языке антисемитизма. Однажды мне задали такой вопрос: “Ну, господин Михник, когда же вы эмигрируете в Израиль? Вы ведь еврей, а евреям место в Израиле”. Я вышел из себя и сказал: “Знаете, не вам и не господину Мочару решать, кто я такой, а если вас интересует, когда я эмигрирую, то я вам отвечу: на следующий день после того, как вы эмигрируете в Москву”. Я не хотел позволить им заткнуть мне рот. Пожалуйста, меня можно отдубасить, посадить в тюрьму, но только за то, что я сделал, а не за то, в какую категорию меня определили эти бандиты из госбезопасности. Я считал, что наши доморощенные фашиствующие коммунисты вроде генерала Мочара и его дружков уже держат в руке кнут, что они уже выиграли... Я чувствовал себя человеком, окончательно решившимся. Ладно, они выиграли, но я не сдамся. У них есть власть, сила, наручники, а у меня моя правота».
Кшиштоф Топольский,
бизнесмен:
«Сознание того, что я еврей, пробудил во мне март. Внезапно я оказался главным польским сионистом. У меня был, пожалуй, самый антисемитский процесс во всей Польше. Когда меня впервые привели в карцер, представь себе, как я был напуган: тут какой-то хулиган рядом воет, холодно, черт-те что творится. Ты приходишь с воли, тебе жалко твоей молодости, ни черта непонятно. В эту первую ночь в карцере я был так перепуган, что вызови меня какой-нибудь разумный следователь на допрос, пообещай мне свободу и вообще... что он вернет меня к папе с мамой и что мне будет хорошо и тепло, то я с перепугу... не хочу и думать, что было бы дальше. А потом человек укрепляется, потом оказывается, что все это – раз плюнуть. Потом они меня могли бы хоть год в этом карцере держать и ... пошли они куда подальше. Я познал какую-то другую сторону жизни, понял, где дно, а где верхушка...
Позднее, в Стшельцах-Опльских, я вместе с двумя другими заключенными занимался производством спиртного, и дело у нас шло хоть куда. Никогда в жизни мне не пилось так хорошо, как в тюрьме в Стшельцах. Там я и профессию получил: написал на аттестат зрелости нескольким вертухаям, и был назначен мастером контроля за производством обуви – мы там обувь делали...»
Ян Литынский,
политик:
«Если посмотреть на это в широком, всемирном контексте, возникает образ поколения, которое вдруг захотело что-то сказать. Независимо от того, живем ли мы в тоталитарной системе, где март был серьезным делом, или же это французский май, где все было игрой, карнавальным праздником. В определенный момент это поколение, не знавшее войны, но выросшее в ее тени, начинает что-то говорить. Нечто совершенно иное, чем поколение их родителей. И это был голос 68 года.
В тюрьме человека охватывает чувство потери времени – ведь там, снаружи, что-то происходит. А тут ты не встречаешься с друзьями, нет женщин, девушек. Но меня это чувство мобилизовало. На свободе я никогда не мог заставить себя работать так, как в тюрьме. После освобождения... было ощущение поражения, полного краха. Да еще уезжающие, эмиграция. Я еще встретил нескольких людей, сидевших на чемоданах. Такое сиротливое чувство... После марта очень быстро образовалась пустота. Но в каком-то смысле она заполнилась. Домартовскую среду удалось восстановить, но как бы на более высоком уровне. До тюрьмы интеллектуальные круги Варшавы смотрели на нас как на молокососов, лезущих не в свое дело. После марта наша позиция в обществе вдруг сильно упрочилась».
Северин Блюмштайн,
журналист:
«Быть польским евреем – это... интересное и временами не легкое приключение. Тут каждый должен сам с собой разобраться. Одни с этим еврейством больше себя отождествляют, другие меньше. Из-за фамилии я был довольно заметной фигурой во всех этих еврейских делах. У меня было такое ощущение, что еще до марта все было предрешено. Это должно было плохо закончиться. У меня было фаталистическое отношение ко всему этому делу. Я просто считал, что придут каких-нибудь сто студентов, а власти скрутят их, и дело с концом. А тут вдруг общественный бунт... Ну, ребята, значит – успех».
Януш Шпотанский,
литератор:
«Знал я и таких старых довоенных коммунистов, уже полных маразматиков, которые, когда я вышел из тюрьмы, вдруг начали относиться ко мне с огромным почтением... Кормились они главным образом при клубах международной книги и прессы, вгрызались там в газеты. И вот в один прекрасный день пришел я туда что-нибудь почитать и смотрю: сидит один такой старый коммунист. Он тут же подошел ко мне и спрашивает таинственным шепотом: “Вас как, очень мучили в этой тюрьме? Пойдемте погуляем, тут наверняка подслушка”. Ну, вышли мы, гуляем, гуляем, а он все треплется, треплется. А потом и говорит мне: “Знаете, я теперь, спустя многие годы, осознал, что мы совершили ужасную ошибку: надо было делать ставку на Розу Люксембург”.
...У меня совсем не было ощущения, что «красные» одержали какую-то победу. Как раз наоборот, я считал, что они на многом ... страшно обожглись. И на этот антисемитизм никто не купился, кроме каких-то склеротических старых идиотов, и на этот их мнимый большевистский патриотизм никто не клюнул. Когда мы уже вышли из тюрьмы (а вышли мы все более или менее одновременно)... только тогда я ознакомился с ними, сдружился. То, что они были из «аристократии», из семей, связанных с послевоенной властью, за что их теперь страшно осуждают, тоже имело невероятно положительное значение, так как они не боялись. Они вносили в это революционное движение какую-то свежесть, у них не было того прошлого, когда людям отбивали почки. Именно поэтому Михник сыграл такую важную роль: он был способен на невероятно смелые шаги, которые никому другому просто не пришли бы в голову».
 Виктор Ворошильский, поэт:
Виктор Ворошильский, поэт:
Начала возникать новая оппозиционная среда, в которой были и литераторы, и студенты или бывшие студенты. И дальше... в начале 70-х, мы уже многое делали вместе. Например, из этого выросла независимая печать и издательства. Так что без марта оппозиция 70-х выглядела бы иначе. Сейчас это очевидно. А без оппозиции 70-х не было бы и 1980 года.
Каждое поколение, так или иначе, вносит вклад в историю. Но не всякий вклад вызывает удовлетворение, гордость.
То, что совершили единомышленники Адама Михника, возбуждало уважение еще на стадии, когда они отведали резиновых дубинок, услышали лязг наручников, тяжелый скрип тюремной двери. Их стойкость, готовность и умение отстаивать свои взгляды, противостоять любой травле – власть не брезговала и поношениями из геббельсовского арсенала – содействовали коренному обновлению страны. Ее переходу из лагеря, подобного застенку, в сообщество свободных государств».
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru