[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2004 НИСАН 5764 – 4 (144)
ЦОДИК ЦЫПКИН, ПРИКАЗЧИК Б-ГА
Григорий Канович
Никто в Йонаве не ожидал, что наш разборчивый и всевидящий Гсподь Б-г, устраивающий на небесах все замужества и женитьбы, соединит под свадебной хупой дочь сапожника Шимона – Рохл и сына его вечного конкурента, незлобивого, чахоточного Мендла – тихоню Довида. Довид был добродушный увалень с рыжеватой бородкой клинышком, смахивавшей на пучок увядшего укропа; Рохл же, которую в местечке в отличие от праматери евреев по-простецки звали Рохца-Пожар, была дородной, шумной девахой, наводившей страх на своих сверстников не только громовым, граммофонным голосом, но и крепкими кулаками. Рохца-Пожар иногда их пускала в ход, защищая свою девичью честь от посягательств слишком бойких и настойчивых кавалеров, норовивших в первый же вечер залезть ей под юбку, и в острастку оставляла на их лицах свои назидательные метки в виде ссадин или синяков под глазом. Озорная и шумливая Рохл ни по росту, ни по годам не подходила низкорослому и стеснительному Довиду, которого даже штаны и бородка не делали мужчиной, и не было в Йонаве человека, кому могло бы прийти в голову, что когда-нибудь Рохл и Довид сыграют свадьбу и станут мужем и женой.
Но, видно, так уж у евреев от века повелось, что среди уймы маловеров всегда отыщется какой-нибудь Моисей, который придет и скажет: «Эй вы, ленивцы и лежебоки! Следуйте за мной, и я вас прямиком приведу в землю Ханаанскую, которая течет молоком и медом».
Нашелся такой смельчак и в Йонаве – знаменитый сват Цодик Цыпкин по прозвищу «приказчик Б-га». Цодик Цыпкин, правда, за свою долгую и сумбурную жизнь никого ни прямиком, ни окольными путями в землю Ханаанскую не привел, но зато под хупу привел полместечка.

Люди диву давались, как хромоногому Цодику удавалось сводить под одну крышу даже тех, кто не то чтобы в пару – в соседи не годился. Слава об удачливом йонавском свате, как ветер, разгуливала по всей Литве и даже по Белоруссии и Латвии, овевая надеждами истосковавшиеся по супружеской ласке сердца. Цыпкин выдавал замуж и женил самых безнадежных клиентов – старых дев, которые, оберегая свои соты, на веки вечные позаколачивали, как он шутил, ульи, дарованные им Гсподом, и закоренелых холостяков, которые обросли ленью, как яловые пни мхом. Сватал Цыпкин не корысти ради, а ради библейской заповеди «пру у-рву» – «плодитесь и размножайтесь». Чем больше на свете евреев, уверял он, тем лучше... Если в каждую еврейскую постель уложить пару, которая, вместо того чтобы считать всю ночь звезды на небе, будет прилежно заниматься необременительным и б-гоугодным делом совокупления, иудеев в мире станет столько, сколько русских и китайцев, и тогда мы залезем в карман, вытащим оттуда руку и всем врагам Израиля покажем вот такую дулю.
И Цодик Цыпкин в подтверждение своих слов показывал воображаемым полчищам русских и китайцев тощую, сложенную из трех заскорузлых пальцев фигу.
После свадьбы своих чад довольные родители расплачивались с Цыпкиным не золотом и не серебром, а плодами своего повседневного труда – портной даром шил ему одежду, сапожник чинил ботинки, балагула возил в Кейдайняй или в Ковно, а, бывало, и в Слуцк или в Елгаву. Когда Цодика спрашивали, в чем секрет его невиданных успехов на многотрудной ниве сватовства, он, блистая адвокатским красноречием, на полном серьезе отвечал:
– Из-за страшной занятости нашего Всемогущего и Всемилостивейшего Б-га, без чьей воли не совершается ни одно бракосочетание на земле, Ему некогда устраивать каждое в отдельности. Он же не наш местечковый раввин Гедалье, успевающий повсюду – и на обрезание, и на бар-мицву, и на поминки. Чтобы как-то облегчить свое бремя, Г-сподь и надумал во всех еврейских городах и местечках назначить своих уполномоченных. В Йонаве Всевышний соблаговолил остановить свой выбор на мне – на Цодике Цыпкине. С тех пор и служу у Него как бы приказчиком. Верчусь-кручусь, ищу охотников брачеваться, сортирую их по возрасту и полу, расфасовываю по парам, уговариваю упрямцев. А хозяин – Отец небесный – следит за каждым моим шагом и в случае удачи тут же шлет мне с горних высей депешу – так, мол, и так: ступай, Цодик, к молодоженам и к их родне и передай им пожалуйста, мой «Мазл тов», – мое благословение. Ну я ноги в руки и мчусь как угорелый выполнять Его просьбу... Прихожу к кому-нибудь в дом и с порога бросаю: «Здравствуйте, дорогие евреи! Меня к вам послал сам Г-сподь Б-г! У Него есть жених для вашей дочки или невеста для вашего сына».
С такой благой вестью от Вседержителя однажды и заявился Цодик Цыпкин к отцу Довида – сапожнику Мендлу, который жил на самом людном месте в Йонаве – напротив синагоги. От весны до глубокой осени в погожие дни Мендл трудился не в душной, пропахшей селедкой и вареными бобами хате, а на виду у всех, на улице, куда выносил все свои сапожничьи принадлежности – колодку, табурет, железную лапу, деревянные ящички с клеем и шпильками; в три ряда, по ранжиру, выстраивал на тротуаре обувь, принесенную в починку, и, вдыхая дырявой, обугленной чахоткой грудью свежий воздух, принимался колдовать над чьими-то рваными штиблетами, туфлями и сапогами. Мастером он был отменным, со свойственными всем умельцам чудачествами и странностями. От других чеботарей он отличался тем, что никогда не называл цену, обычно ждал, когда заказчик предложит свою, чинил все дешево и быстро, навлекая на себя гнев своей скаредной и неуступчивой жены Ханы-Леи, которая частенько вмешивалась в его переговоры с заказчиками и, не сдерживаясь, в их присутствии высоким фальцетом восклицала: «Мой Менделе ошибся, он хороший сапожник, но со счетом у него с детства нелады: муж хотел сказать, что подобьет вам подметки за пятьдесят, а сказал за тридцать. Правильно я тебя, Менделе, поняла – за пятьдесят?»
И бедный Мендл, стиснув зубы, кивал своей лысой головой. Странности его проявлялись и в том, что предпочитал он изъясняться с заказчиками, с женой и детьми (а их, кроме Довида, было еще пять душ – четыре девочки и один мальчик) только кивками и жестами, перемежаемыми глухим и невнятным бормотаньем. И не потому, что был, не дай Б-г, глухонемым, а потому, что не терпел пагубного многословья и считал его причиной большинства еврейских бед. К словам он вообще испытывал смутное, но стойкое отвращение. Его мутило от чрезмерной говорливости Ханы-Леи, всегда употреблявшей слова с воинственностью и раздражительностью, словно они, эти слова, были созданы только для того, чтобы кого-то уколоть, уязвить, поучить. В свое молчание Мендл прятал от людей что-то хрупкое и сокровенное, кутаясь в него, как в старый кожух, от тоски и печали, от домашних и уличных свар, радуясь, что сын Довид уродился в него, а не в трещотку Хану-Лею.
– Шолом-алейхем, реб Мендл, – сказал сладкоречивый Цыпкин. – Меня к вам послал сам Б-г.
– У Него что – башмаки прохудились? – съязвил Мендл. – Там, кажется, – и мастер запрокинул лысую голову к потолку, – наших йонавских сапожников уже больше, чем ангелов.
– Так-то оно так... Но такого, как вы, реб Мендл, нет ни на земле, ни на небесах... – польстил хозяину Цодик.
В тот осенний день, когда Цыпкин пришел к Мендлу, занудный дождь школьной линейкой сек за окнами вымершее местечко. Хана-Лея с детьми застряла после вечерней молитвы в синагоге, и никто в хате не мешал неспешной мужской беседе. Мендл обожал россказни Цодика о сватовствах и свадьбах, о том, как и чем его угощали, а сам Цыпкин, не чинясь, нахваливал свои недюжинные способности – якобы попроси его, и он сведет воедино огонь и воду, стену со стеной. Недаром, мол, то тут, то там ему, уполномоченному Б-га, сулили за услуги золотые горы. В Салантай благодарные родичи, сплавившие старого холостяка-племянника, предлагали Цыпкину поехать с ними на белом пароходе в Америку и открыть в Нью-Йорке, в городе, который в тысячи тысяч раз больше Каунаса, совместную брачную контору – «Цодик Цыпкин и братья Каценельсоны»; миллионы, мол, в первый же год потекут к ним в руки, как вода из рукомойника. Но он, Цыпкин, наотрез отказался. Каждому еврею, конечно, позарез нужны миллионы, но ради них он, Цодик, не собирается бросать на произвол судьбы своих родителей. Что с того, что их давно на свете нет? Какой порядочный еврей ради мамоны оставит своих родителей и навсегда уедет от них только для того, чтобы стать на чужбине миллионером?

– Меня к вам послал сам Б-г, – в который раз повторил Цодик. – Г-сподь очень интересуется, скоро ли ваш Довид перестанет болтаться-шататься один по местечку и наконец обзаведется семьей. Не пора ли ему, вашему, извините, жеребчику, взять в жены какую-нибудь из йонавских дев, создать, как говорится в наших священных книгах, из своего ребра Еву.
– Пора! – выбрел из густых зарослей молчания Мендл.
– Приятно слышать.
– Но у моего Довида нет ни одного лишнего ребра, – процедил сапожник и снова увяз в молчании.
– Странный вы, реб Мендл, человек, – не сдавался Цодик. – Напрасно ловите меня на слове. Я же это позволил себе, извините, только для наглядности...
Отец Довида сидел неподвижно и глазел на непреклонного свата не то с жалостью, не то с испуганным восхищением.
– Что, по-вашему, требуется для счастливого супружества и совместной жизни? Как вам известно, в браке важны не ребра – оставим их в покое! – а совсем, совсем другое. Не догадываетесь? – «приказчик Б-га» выждал, пока Мендл его спросит, что же так важно в браке, но сапожник молчал. – В браке, как и во всей природе, важен стебель. А со стеблем у вашего сына, как я успел заметить на прошлой неделе в предбаннике, все в полном порядке. Дай Б-г – хи-хи-хи – этому стеблю торчать и не гнуться до ста двадцати лет. Ну что вы молчите? Спросили бы хоть, кто невеста! – взмолился Цыпкин.
C уст Мендла упала капелька любопытства:
– И кто же?
– Дочка вашего соседа – Шимона Ициковича...
– Рохца-Пожар?
– Не правда ли, прекрасная пара? Не обещаю большого приданого, отец невесты, Шимон Дудак, как вам известно, не барон Ротшильд, но верность мужу до гроба и кучу внуков я гарантирую. Вы у кого-нибудь в местечке видели такие груди, как у Рохцы? То-то!.. И молока у нее, извините, в запасе на дюжину детишек по меньшей мере! А уж как она орудует молотком и шилом! Да Рохца запросто любого мужика за пояс заткнет! Представляете – Довид берет ее в жены, и у вас дома появляются целых три замечательных сапожника! Только не морочьте мне, Мендл, голову сказками про любовь. Зачем, я вас спрашиваю, бедному еврею любовь? Еврею, извините, нужна не любовь, а здоровье, лад в доме и чолнт или гефилте фиш на субботу... А любовь? Она, как цветок в поле, сорвал, понюхал, полюбовался, а назавтра, извините, либо выбрасывай, либо беги в поле за другим цветочком. Вы что, по любви, скажете, на Хане-Лее женились? Я на Шифре – по любви? Наши родители, светлый им рай, привели их к нам и сказали: живите, дети, в мире и согласии... Вот вы, извините, до сих пор со своей и живете уже почти полвека, дай Б-г вам долголетия и кучу правнуков, и я к покойной Шифре, да светится ее имя в небесах, прилепился на сорок с лишним.
– Ну без любви, по договору, это в кои-то веки так было, – вставил Мендл. – Сейчас, Цодик, так только быка к корове по весне приводят...
Сват Цодик Цыпкин был не из тех евреев, кто не признает за противной стороной никакой правоты и во что бы то ни стало стремится выставить ее в дураках.
– Вы правы, Мендл, – громко и весело сказал Цодик. – Это было не при этом русском царе, не при Николае – при другом, но не в другое время. Для евреев времена не меняются. После разрушения Храма все времена для нас – либо скверные, либо очень скверные... Может, только наши внуки доживут до сносных... Но от сыновей, которые станут, извините, уклоняться от своей главной обязанности, никаких внуков не бывает... Шилом их за сапожной колодкой не делают. А что до быка и коровы, то на бесконечном лугу г-сподней милости все твари равны: и люди, и звери. Наш Г-сподь другого способа размножения пока не придумал... Но, согласитесь, реб Мендель, и прежний хорош. И за него Всевышнему полагается большое спасибо. Не так ли?
Мендл постукивал молоточком, сучил дратву, вытирал краем замусоленного халата пот со лба, смаковал, как пирожок с маком, свое молчание. Но Цодика его молчание не отпугивало, и он не торопился уходить. Да и куда было спешить – в местечке дождь, а в хате тепло, скоро Хане-Лея придет из синагоги и позовет их к обеду, она свата никогда голодного не отпустит: шутка ли – дома четыре невесты подрастают, стряпуха Хана-Лея что надо, накормит вкусно и до отвала. Глядишь, за столом сообща и уладят дело, да еще чарку вина, оставшегося после Пасхи, опрокинут – не в рекруты же собираются забрать их Довида.
Как только слухи-искры разлетелись по местечку, дочь Шимона – Рохца-Пожар не стала дожидаться, когда ее приведут на аркане к жениху, и сама решила встретиться с Довидом и выяснить всю правду.
В ту далекую, уже изъеденную молью пору жители Йонавы обычно чаще всего встречались в двух местах – в синагоге и, не приведи Г-сподь, на кладбище. В синагогальном дворе набожная Рохца-Пожар и подстерегла Довида, посещавшего молельню только по большим праздникам.
– Здравствуй, рыжий.
Довид кивнул.
– А ты, оказывается, не только ворон кормишь, но иногда и молишься.
Не обидевшись за ее ехидный тон, он снова миролюбиво кивнул.
– Что ты, рыжий, всегда молчишь, как Б-г на небесах? – вспылила Рохца-Пожар.
– Б-г, Рохца, по-моему, потому и Б-г, что Он не чешет языком, а все время молчит.
– Ишь ты какой! Может, и ты в Б-ги метишь?
Довид покачал лохматой головой.
– Немой, и тот щедрее. Когда женишься, жена на второй день после хупы сбежит от тебя.
Он хмыкнул...
– Может же так случиться, что она, жена твоя, балаболка, за день рта не закроет, а ты, ее муж, ни разу за день не откроешь своего. И что это будет за жизнь?
Он выпучил на нее свои голубые, «гойские», как говорила Хане-Лея, глаза, поправил на рыжей копне ермолку и сказал:
– А у меня жены не будет...
– Как не будет? Твой отец уже обо всем договорился. Все местечко знает, а ты, получается, слыхом ни о чем не слыхивал...
– О чем?
– Ты, рыжий, не придуривайся. Ведь все прекрасно знаешь. Может, даже и о дне свадьбы уже столковались.
– Не...
– Что – «не»? Врешь.
– Не...
– Скажи еще, что свата Цодика Цыпкина в вашем доме не было. И ты его в глаза не видел?
– Не...
– От твоей болтливости можно с ума сойти, – Рохца-Пожар зашмыгала носом и вдруг выпалила. – Так вот знай: нас, рыжий, с тобой хотят женить. Понимаешь, женить!
– Что?
– Испугался, миленький?
– Не. Чего мне пугаться? Я, Рохца, согласен, – выстрелил он в упор. – А ты?
Рохца-Пожар опешила от его искренности и прямодушия. Молчун Довид, не раздумывая, все принял всерьез и готов был тут же, из синагогального двора отправиться к раввину. Его внезапное согласие прозвучало как неуклюжее признание в любви. А ей всего-то хотелось разыграть его, подразнить.
– Оказывается, и ты умеешь молчать, – упрекнул он ее с обидой. – Ты что – против? Против? – наседал на нее Довид.
От растерянности она не нашлась, что ответить. Шутила, шутила и попала в силки, из которых не так-то просто было выбраться. Рохца вдруг вспомнила, как мать Хане-Лея учила ее, что девица на выданье никогда не должна второпях говорить своему поклоннику или ухажеру ни «да», ни «нет». Скажешь «нет» – можешь нечаянно и нелепо на всю жизнь со своим счастьем разминуться, скажешь «да» – можешь на себя беду накликать.
Вопрос молчуна Довида застал Рохцу врасплох – ведь рыжий за ней даже не ухаживал. Бывало, где-нибудь встретит, поздоровается и долго смотрит вслед, как за журавлиным клином в небе, с непонятной тоской и прощальной нежностью.
– Не знаю, не знаю, – выдохнула она и убежала.
Но недаром говорится: как ни убегай от судьбы, она тебя все равно догонит. Судьба догнала Рохцу-Пожар за три месяца до начала первой мировой войны, когда на чью-то пышную свадьбу в Вене еще могли пригласить живого эрцгерцога австрийского Фердинанда. В Йонаве же на свадьбе Рохцы-Пожар не было ни эрцгерцогов, ни князей. Весь день до полуночи во дворе Шимона Дудака под редкими и чахлыми липами ели-пили званые гости жениха и невесты – все сапожники и портные местечка, балагулы и цирюльники, шорники и печники. Верховодил весельем нарядно одетый, с нафабренными усами «приказчик Б-га» Цодик Цыпкин; во главе стола, рядом с родителями новобрачных, как праотец Авраам, восседал престарелый белобородый раввин Гедалье, а одесную обрезатель Пинхас; в конце стола примостился сумасшедший Бенцке, все время в шуме и гомоне прислушивавшийся к плеску золотистых карпов в животе.
– Лехаим! – возглашал Цодик. – Лехаим! За счастье молодых! За брачное ложе и за большой приплод! И чтобы это ложе всегда пустовало у врагов Израиля!
– Алевай! – сказал обрезатель Пинхас, как никто другой в местечке заинтересованный в таком приплоде, и, чокнувшись с Довидом и Рохцей, не преминул похвастаться. – Между прочим, я и тебя когда-то, дорогой мой, вынул из пеленок и чик-чирик...
Салютом в честь Пинхаса грянул смех. Звенели стаканы, скрипели начищенные до зеркального блеска башмаки, неистовствовали, соперничая друг с дружкой, флейта и скрипка, плескались голоса, звуки, брага, золотистые карпы.
– Слово жениху! – закричал кто-то. – Слово жениху!
– Слово, слово, слово… – нараспев повторяли захмелевшие гости.
Довид заерзал на стуле, метнул взгляд на раскрасневшуюся Рохцу, ища то ли сочувствия, то ли одобрения, потер лобную кость, пытаясь нащупать приятную для всех мысль, медленно поднялся, откашлялся и, волнуясь, произнес:
– Спасибо!
– И это все?! – гул недовольства прокатился по двору.
Жених помолчал, одернул пиджак, снова взглянул на Рохцу и выдавил:
– И еще я хочу сказать реб Пинхасу, что он может завтра утром прийти за своими ботинками. Они готовы.
– Хо-хо-хо! – грянуло со всех сторон. – За ботинками! А мы-то думали, что ты зовешь реб Пинхаса на второй чик-чирик. Мало тебе, Довидке, одного... Хо-хо-хо!
– А, может, он у него такой, что его маленько укоротить надо, – ляпнул тот, кто требовал от жениха слова.
Веселье не умещалось во дворе, клубилось, как дым, над всей Йонавой, и от него, от этого веселья, больше, чем от выпитого, кружилась голова. Казалось, что и звезды, проклюнувшиеся на небе, улыбались, и холостяк-месяц смеялся.
Около полуночи гости начали расходиться по домам. Только сумасшедший Бенцке сладко посапывал за столом, и Довид не стал его тревожить – пусть спит, во сне, наверно, он такой же, как все, и в животе у него плещутся не золотистые карпы, а урчит литовский горох или простокваша; во сне Бенцке не задирает на каждом шагу рубаху, а сидит с рабби Гедалье на втором этаже синагоги и при тусклом свете керосиновой лампы учит Гемару. Пусть он спит. Зачем будить безумие, которого и без того полно в мире?
Не успели замолкнуть свадебные тосты, как на молодоженов свалились неожиданные хлопоты с брачным ложем, тем самым, за которое с таким пылом и страстью ратовал Цодик Цыпкин. Ни в хате тестя, ни под крышей свекрови никакого свободного ложа, да еще на двоих, не было. Все тюфячки и диванчики, все кушетки и топчаны были заняты их многочисленной родней – младшими сестрами и братьями, и Довид и Рохца, как прежде, продолжали жить врозь, жених – у своих, невеста – у своих, разлучаясь на ночь. В местечке вдруг зачадили пересуды и сплетни. Слыхали, у Рохцы-Пожар и у Довида все кувырком, то ли она от него ушла, то ли он от нее деру дал...
– Безобразие! Позор! – напустился на Мендла возмущенный Цодик Цыпкин, явившийся за своими залатанными башмаками. – Где это, скажите, слыхано, чтобы в еврейском доме не было двуспальной кровати – верстака, на котором мастерят потомство.
– Столяр Лейзер только одну для нас смастерил. На ней-то мы с Хане-Леей худо-бедно и мастерим вот уже больше тридцати лет...
– Честь и хвала за такое трудолюбие! – воскликнул сват. – Ого-го! Тридцать лет. За этот срок вы уже, извините, намастерили наславу... Шестерых родили. Теперь можно бы позволить и сыну отличиться... Что за прок в шиле, если им никуда не тыкаешься, и оно только ржавеет?
– Мы, Цодик, уступили бы с радостью. Но куда нам деваться?.. На чердак? – спросил у «приказчика Б-га» Мендл.
– А чем плох чердак? Тихое, укромное местечко... Я, например, на чердаке родился... Да, да, Б-г свидетель! Мама пошла за какими-то банками-склянками и рассыпалась…
– У нас там зимой жуткий холод и тьма. И летучие мыши. Хане-Лея их, как смерти, боится...
– Тьма и летучие мыши – делу не помеха. А как от холода греться, молодых учить не надо...
– Это верно. Но у нас, Цодик, на беду, нету лишней кровати, – признался Мендл. – Не могли же мы предвидеть все наперед и запастись восемью двуспальными лежаками для наших дочек.
– Господи! Что за люди! Лишнего ребра нет, лишней кровати нет… Если у евреев есть что-то лишнее, так это только болячки и беды... Ладно, – внезапно, от собственных слов, подобрел Цодик, – я поговорю с Лейзером. Он дорого не возьмет, не из красного же дерева сколотит, а из сосновых досок... А Довид за год заработает и рассчитается...
Мендл не сомневался – такой человек, как Цодик Цыпкин, может договориться с кем угодно – и с Всевышним, и с государем-императором. Сладит он и с Лейзером. Разве откажешь свату, прозванному «приказчиком Б-га», если у тебя подрастают две внучки?
– К Рош а-Шона сделаю, – пообещал Лейзер.
Желая помочь разлученному с Рохцей сыну, Хана-Лея пускалась на всякие хитрости. Порой, перед тем как отправиться с мужем и своим выводком на вечернюю молитву в синагогу, она намеренно меняла постельное белье, доставала из комода свежие наволочки в расчете на то, что догадливому Довиду удастся до прихода родни «соблазнить» свою упрямую и неприветливую женушку и выполнить Б-жью заповедь.
– Зайдем, Рохеле, к нам... Ну хотя бы на полчаса... Не бойся, мои придут нескоро, – не раз настойчиво предлагал Довид своей благоверной, разгадав великодушный мамин маневр.
Но Рохца-Пожар была неумолима.
– Нет, нет... В чужую постель – ни за что…
– Дурочка! Какая же она чужая?..
– Чужая, – твердила она. – Столько терпел, потерпи еще немножечко... потом слаще будет, – и она заливалась звонким смехом.
Лейзер сдержал слово, сделал в срок легкую, вместительную кровать, вырезал в изголовье пару ангелочков, парящих над горой Сионской, и, ухмыльнувшись, пожелал молодым не жалеть его изделие.
– На моих кроватях мастерят лучших детей в Литве. Мастерите на здоровье!
Но мастерили они на ней недолго. Ближе к зиме балагула Шая привез из Ковно дурную весть о том, что власти решили выселить из прифронтовой полосы всех жителей Моисеева вероисповедания – мол, таковы законы войны, противник-немец вербует среди них шпионов, которые могут крепко навредить матушке-России и оказать бесценную помощь ее лютым недругам. Многие вестнику не поверили, Шая, мол, всегда все преувеличивает, но когда осунувшийся, мрачный, враз переставший балагурить Цодик подтвердил эту новость, Йонава совсем сникла. «Приказчик Б-га» врать не станет – ведь он не с клячами имеет дело, а с небесами.
– Б-же ж ты, Б-же, ну и государствьице! – пожаловался он Мендлу. – Мало им, что мы христопродавцы и кровопийцы, ростовщики и банкиры, так мы еще сейчас вдобавок и немецкими шпионами стали! Мог же я, дурень, принять предложение и поехать на пароходе в Америку, где одни торговые, а не прифронтовые полосы, сидел бы себе в брачной конторе «Цодик Цыпкин и братья Каценельсоны», сватал бы сыновей и дщерей Израиля из Вильны и Бердичева, Полоцка и Одессы и поплевывал бы издалека на все русские указы…
– Цодик! По-твоему, я тоже шпион? – допытывался простодушный Мендл.
– Тоже, тоже, – пропел «приказчик Б-га. – Шпион!.. И дети твои, и жена твоя...
– Но я даже не знаю, что это такое? Хворь или… – не унимался сапожник.
– Это, Мендл, еще хуже. Это – «или».
– Что же делать? Рохца беременна. Хану-Лею одышка мучает. У меня сердце шалит...
– А что делать, если властям вдруг вздумается отправить еврея в Сибирь? Стрелять из пушек? Так пушек у нас нет... Подать на царя в суд? Так у нас кроме суда Б-жьего никакого другого нет. Еврей, Мендл, может только палить в своих врагов проклятьями и просить защиты у неба. На земле у нас защитников уже не осталось. – Цодик Цыпкин перевел дух и продолжил: – Мне лично в Сибири делать нечего. Кого там сватать? Пятнистую рысь и бурого медведя? Пока эта катавасия с высылкой не началась, я, пожалуй, отсюда подамся куда-нибудь в Белоруссию или в Латвию. В Белоруссии наших на мой век хватит...
– А ты, Цодик, поговори с ним, – Мендл трахомными глазами уставился в потрескавшиеся потолочные балки. – Мы все-таки дальние родственники. Твой прадед Генех и моя прабабка Фейге....
– С кем поговорить?
– С Б-гом. Ты же с ним запанибрата.
– Вся беда в том, что Он у русского царя ни о чем просить не станет.
– Почему же? Ведь Он говорит на всех языках... Даже по-русски. Что Ему стоит?
– Ну и что, по-твоему, Он говорит? Они давно друг друга недолюбливают. Русский царь мог, конечно, войти в наше положение и ради сокращения казенных расходов на долгий переход и из-за нехватки тягловой силы – где взять столько лошадей? – сопроводить из Йонавы всех обывателей Моисеева вероисповедания не в Сибирь, а в соседнюю Белоруссию и расселить их там среди единоверцев. А теперь поди знай, куда нас занесет.
Евреев из Йонавы вдруг как метлой вымело.

По ухабистой дороге местечка в сторону Вильны медленно двигалась вереница возов, битком набитых ссыльными и их домашним скарбом, сваленным как попало между грядками. В головной телеге балагулы Шаи, под осенним ветром ежилась вся семья сапожника Мендла, он не выпускал из рук окованный железом ящичек – видно, с сапожничьей утварью. Рядом с ним, шевеля бескровными, как черви в засуху, губами, чуть слышно молилась б-гобоязненная Хана-Лея. За Шаиной телегой плелся кормившийся при Мендлиных сумасшедший Бенцке, сирота и горемыка, зачисленный, как и все йонавские евреи, в шпионы и по высочайшему указу подлежащий высылке. Беременная Рохца-Пожар, окруженная молоденькими золовками и зарывшаяся до пояса в еще пахнущее раздольем сено, улыбалась ему дружелюбной улыбкой – мол, у меня тоже в животе плещется золотая рыбка, а Бенцке из благодарности задирал на ветру рубаху и переходил с шага на мелкую и радостную рысцу. На другой подводе вместе с местечковым раввином Гедалье, никогда не гневавшим своими жалобами Б-га и ни разу не заикнувшимся перед Ним о милости для себя, качался хмурый и задумчивый Цодик Цыпкин в широком пальто с ватным, торчащим клочьями подбоем и в потертой фетровой шляпе, делавшей его похожим на огородное пугало. Вдоль возов в длинных шинелях с поднятыми воротниками, меся сапогами сочную, угольного цвета грязь, шагали равнодушные солдаты с ружьями наперевес. Время от времени Цыпкин многозначительно перемигивался с Довидом, укрывавшим своим телом Рохцу от разнузданного встречного ветра.
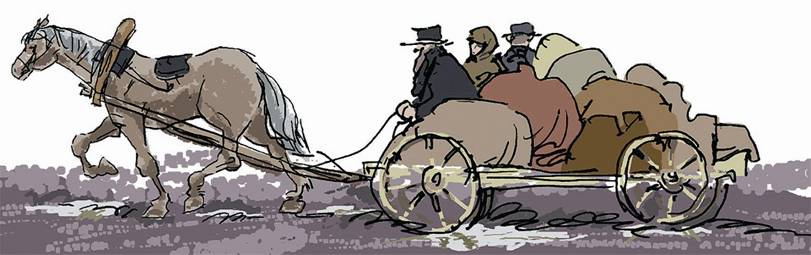
Мимо проплывали взъерошенные, вымокшие под дождем перелески и приземистые хаты, как бы вросшие в землю, и от их печального, нищенского однообразия дорога казалась еще тягостней и длинней. Лошади шли ни шатко ни валко, нагоняя своей неторопкой поступью тоску и дремоту на седоков. Больше всех от неизвестности томился Мендл, для которого разлука с Йонавой была равнозначна смерти. Когда солдаты скомандовали возницам: «Стой!», давая понять, что обоз может справить нужду, сапожник не выдержал и спросил Цодика:
– И долго нам еще так тащиться?
– Чем дольше, тем лучше, Мендл. Впереди, извините, хорошего мало.
– Ты, Цодик, немного калякаешь по-ихнему... Спроси, куда нас везут, – сказал Мендл и повернул голову к конвоирам. – Может, там и евреев-то не будет.
– Если в Сибирь не загонят, то будут. Но для тебя, Мендл, что важнее – евреи или работа?
– Работа, – не задумываясь, сказал сапожник.
Цодик Цыпкин хмыкнул, юркнул в придорожные кусты, расстегнул штаны, оросил бойкой струйкой Белоруссию и, снова усевшись на телегу, стал, как лошадь от слепней, отмахиваться от невеселых дум о том, останется ли он уполномоченным Г-спода на новом, незнакомом месте, где, наверно, своих сватов полный короб, и не придется ли ему ради хлеба насущного опять раздобыть ножницы и бритву и приняться за прежнее, напрочь забытое занятие – перебиваться, как в молодости, брадобрейством. Он уже жалел, что проявил нерешительность, не бежал из Йонавы куда-нибудь на север, хотя бы на границу с Латвией. Поселился бы в каком-нибудь тихом местечке – в Пасвалисе или Биржай и спокойно переждал бы в глухомани эту дурацкую войну, совсем не нужную евреям, которые в древности уже навоевались так, что им хватило на тысячи лет вперед…
На седьмой день пути часть обоза двинулась дальше, а часть свернула с дороги и въехала в большой, сонный город с одноэтажными серыми домами, над ними облупленной луковицей возвышалась каменная церквушка. Миновав рыночную площадь, телеги выкатили на окраину и остановились у многооконного здания, которое на поверку оказалось опустевшей солдатской казармой.
– Как этому городу имя? – на ломаном русском поинтересовался у служивого Цыпкин.
– Сморгонь, – ответил солдат.
Как только ссыльные разместились в нетопленой казарме, мужчины тут же отправились на разведку в город. Вопреки опасениям в сонной Сморгони евреев было немало, но, к огорчению Мендла, гораздо меньше, чем сапожников. Жестяные вывески с изображением ботинка или сапога красовались на каждом углу, и Мендл совсем сник. Не выражало радости и изможденное, в паутине морщин лицо Цодика Цыпкина. Это в Йонаве Цодик знал всех, живых и мертвых, тех, кто родился и должен родиться, кто сходился и разводился, кто вдовец, а кто скопец; в Йонаве он был уполномоченным Б-га, а тут? Старый нищий, фантазер, потчующий людей своими бреднями о связях с Б-гом. Кому он тут нужен?..
С самого начала повезло только рабби Гедалье и сумасшедшему Бенцке, которых из милосердия приютила местная деревянная синагога. Но это было неудивительно. Святых и безумцев в отличие от сапожников и сватов нигде не бывает в избытке – почему бы их не приютить?
Мендл впал бы в полное отчаянье, если бы не сметка и находчивость Цодика Цыпкина.
– Вы зря отчаиваетесь, Мендл. Я, кажется, нашел для вас прибыльную работу, – объявил «приказчик Б-га».
– Что? Где? – хором закричали Рохца-Пожар, Довид и Лея.
– Минуточку! Сейчас все узнаете... Только не перебивайте. Если память мне не изменяет, вы, Мендл, большой любитель приколачивать набойки и латать дыры на свежем воздухе. Так вот: воздуха у вас будет вдоволь. Может, не такого свежего и чистого, как в раю, но, как говорил мой отец, благословенна его память, даже в раю евреи извините, пукают... Но чего не сделаешь ради заработка? Стерпишь и пук, и стук...
– Что ты, Цодик, городишь? Объясни толком... Какой воздух, какой заработок? – запричитал нетерпеливый Мендл.
– Все просто, как бублик. Сядете где-нибудь с Довидом на рыночной площади, и с Б-жьей помощью начнете стучать своими молотками. Ручаюсь, и месяца не пройдет, как от заказчиков отбоя не будет. Все гои с окрестных деревень в базарные и престольные дни потянутся к вашим колодкам со своей рванью; вам станут привозить ее возами, ведь на селе обувка рвется и изнашивается быстрей, чем там, где булыжные мостовые и тротуары. Через полгода Сморгонь, извините, потечет для вас молоком и медом. О курах, бульбе и яйцах уж и говорить нечего. Сможете досыта кушать, а излишки даже продавать. А когда русские побьют немцев, на поезде вернетесь к себе домой, в Йонаву. Войны все равно когда-нибудь кончаются, а базары – никогда, они вечны... Поэтому не мешкайте и начинайте в добрый час... Голову на отсеченье – все здешние сапожники от зависти лопнут и потребуют от властей, чтобы вас немедленно выслали обратно!
– Дай-то Б-г, – сказал взволнованный Мендл. Но соглашаться не спешил. В предложении Цыпкина было что-то унизительное и заманчивое одновременно. Мендл казалось, что, согласившись, он выставит себя на посмешище – где это видано, чтобы сапожник под хрюканье свиней и под конские струи подметки подбивал, а, отказавшись, неизбежно обречет свою семью на голод… Рохца-Пожар и особенно Хана-Лея всячески уговаривали Менделя поискать другой выход: негоже, мол, еврею сапожничать на базаре, мало ли чего с ним может приключиться – какой-нибудь пьяница облает и жидовской мордой обзовет или вместо того чтобы расплатиться, по голове колом огреет. Уж лучше недоедать...
Но другого выхода не было. Начал Мендл один, без Довида – облюбовал местечко среди возов, поставил колодку и табурет, выложил напоказ все сапожничьи причиндалы, вытащил из торбы пару-другую старых Рохциных и жениных туфель, которые принес для почина, и принялся на виду у ошарашенных белорусов тыкать в кожу шилом, сучить дратвой и что-то сосредоточенно сшивать и прибивать. Селяне сперва поглядывали на него с высокомерным удивлением, а потом, поглаживая усы и дымя махоркой, степенно подходили поближе к чужаку и даже отваживались о чем-то спрашивать. Чтобы не оттолкнуть их своим молчанием, Мендл на все вопросы по своему обыкновению отвечал кивками, уверенный, что спрашивают его о том, дорого ли он берет за починку или чинит ли по совести. «По совести, по совести!», успокаивали их его залитые старостью глаза. И, видно, успокоили. С каждой неделей число заказов росло. Чего только Мендлу не привозили – башмаки, галоши, кирзовые сапоги, боты, полуботинки. Он уже один не справлялся, рядом с ним появился Довид. После работы оба возвращались в казарму с крынками молока, деревенским хлебом, медом, а порой и с живностью под мышкой.

На казарменном плацу закудахтали куры, закукарекал петух, загоготали гуси. Хана-Лея, еще недавно отговаривавшая мужа, пасла их с таким горделивым видом, будто сама вот-вот снесет полновесное яичко и закудахчет.
Всю весну Мендл и Довид ни на один день не давали своим рукам покоя и уже к началу лета разжились так, что могли снять в городе у старика-еврея, переехавшего к детям в Барановичи, хату-развалюху и вскоре справили скромное новоселье, на которое пригласили балагулу Шаю, устроившегося в местном похоронном братстве, рабби Гедалье и даже дурачка Бенцке с его золотистыми карпами – как-никак земляк.
За накрытым белой скатертью столом, уставленным домашними пирогами и яствами, честно заработанными на базаре среди криков и ругани, пьяного буйства и драк, верховодил не Цодик Цыпкин, как это всегда бывало на свадьбах в Йонаве, а хозяйничали чинная Хана-Лея в новом ситцевом платье и ее невестка Рохца-Пожар, живот которой с каждым днем все больше округлялся, как входящее в зенит солнце. Рабби Гедалье, погрузив свою сухую жилистую руку в бороду, как в теплые воды Иордана, благословил хлеб и вино, балагула Шая буркнул себе под нос «Аминь» и доверху налил стакан; сумасшедший Бенцке расщепил ногтями кусок яблочного пирога на мелкие крохи и стал их медленно закидывать в гнилозубый, пропахший чесноком рот.
Только виновник торжества Цодик Цыпкин, спасший Мендла своим советом от отчаяния и нищеты, не притронулся ни к еде, ни к питью. Он сидел за столом, сгорбившись, непривычно молчаливый и бледный. Глаза у него то ли слезились, то ли болезненно блестели; волосы были всклокочены, и их клоки свисали с макушки словно подрубленные ветки. Молчун Мендл пытался свата разговорить, но тот лишь странно и отрешенно улыбался, будто обращались не к нему, а к кому-то отсутствующему.
– Что с тобой, Цодик? Тебя не узнать, – подсел к Цыпкину Мендл. – Это же твой праздник... Если бы не ты, у нас всего этого не было бы. Бенцке, и тот, посмотри, Ханы-Леин пирог ест...
– Так то Бенцке... Он своих карпов кормит, чтобы с голоду не подохли. А мне некого кормить... Однажды – я теперь уже не помню, когда это было, – я подошел к Бенцке и спросил: «Бенцеле, почему ты этих карпов в озеро или в реку не выпускаешь?» И знаешь, что он мне ответил?
– Не.
– Если, сказал он, я их выпущу, то тут же умру... Дурак – а ответил, как мудрец. Понял?
– Не.
– Мендл, у каждого в жизни есть что-то такое, чем он дорожит до сумасшествия… У тебя – шило, у Шаи – его вороная. У рабби Гедалье – Тора. У меня тоже было что-то дорогое, без чего глупо жить. Но тут моих золотистых, кареглазых карпиков взяли и выпустили в озеро. И они навсегда уплыли от меня.
– Да тут в Сморгони никакого озера нет.

– Эх, Мендл, Мендл!.. Какой ты счастливый! Понимаешь только то, что хочешь понимать, и не понимаешь того, что надо понимать.
Через неделю после новоселья Цодик Цыпкин, «приказчик Б-га», из Сморгони исчез – словно сквозь землю провалился. Вся семья Мендла, даже девочки-отроковицы днями напролет занимались его поисками. Белобородый раввин Гедалье и староста синагоги отправились в городскую управу и оповестили полицмейстера Ланового об исчезновении прихожанина. Главный страж порядка их выслушал и сказал:
– Сват? Цыпкин?.. Если он не сосватает себе в жены безносую, то либо сам придет, либо будет приведен под конвоем... Никуда ваш человек не денется.
Полицмейстер лениво пожевал верхнюю губу и в конце аудиенции, улыбаясь в пышные маршальские усы, тихо, словно искал заблудившуюся в кустах крапивы курицу, позвал:
– Цып-цып-цып-цып-цып...
Кто говорил, что Цодик Цыпкин пешком отправился в Литву, в Йонаву; кто уверял, что его по дороге убили разбойники, а кто клялся, что за Сморгонью в сосновом перелеске видели висельника в длинном пальто с ватным подбоем и в фетровой шляпе.
Сапожник Мендл никому не верил. Он не сомневался, что сват благополучно добрался до Йонавы, а оттуда подался в Латвию, в портовую Ригу, а из Риги на пароходе через океан перебрался в Америку, где он, уполномоченный Б-гом, до сих пор промышляет сватовством в своей брачной конторе «Цодик Цыпкин и братья Каценельсоны», и миллионы текут к нему в руки, как вода из рукомойника...
Январь-февраль 2004
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru