[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2004 СИВАН 5764 – 6 (146)
ДЯТЕЛ ШИМОН ДУДАК
Памяти деда Ш. Дудака
Григорий Канович
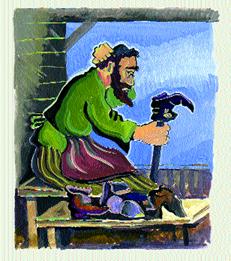
В конце каждого месяца cапожник Шимон Дудак, на удивление всем, прекращал работу и с целым ворохом гостинцев, приготовленных женой Фейгой и аккуратно уложенных в дорожный парусиновый чемоданчик, на денек-другой отправлялся из захолустной Йонавы во временную столицу Каунас. Из родного местечка он добирался до Каунаса либо обшарпанным поездом, доставшимся Литве в наследство от поверженной большевиками русской империи, либо в тряском рейсовом автобусе с рваными сидениями и выбитыми стеклами, купленном уже не на червонцы, а на новую государственную валюту – литы не то в Чехословакии, не то в соседней Германии. Пассажиров и в поезде, и в автобусе обычно было мало – кто ехал с больным ребенком к доктору в еврейскую больницу, кто за покупками в столичные магазины, сиявшие чванливыми стеклянными витринами, кто за ссудой в Народный банк или с бумагами в земельное управление. Хотя старый Дудак почти всех своих попутчиков знал в лицо, он тем не менее старался ни с кем не вступать в разговоры, тихонько усаживался в сторонке, чаще всего у выхода, и принимался глядеть из окна вагона на хаты со взъерошенными соломенными крышами, на степенных коров, провожавших недоуменными, разочарованными взглядами улепетывающего от них прыткого и рокочущего зверя. Шимон не любил, когда кто-нибудь из пассажиров ни с того ни с сего, с оскорбительным безразличием или подозрительным упрямством о чем-то кроме починки обуви спрашивал его, от скуки допытывался, куда и к кому он едет, и сам избегал расспросов, считая, что правдивых ответов не бывает даже на Страшном суде.
– Он может неделями меня ни о чем не спрашивать, – жаловалась на него Фейге. – У любого нормального еврея за день изо рта выпархивает больше вопросов, чем у него на голове волос, а у моего скромника – один-два и обчелся. Если он иногда кому-то и задает какой-нибудь вопросец, то только заказчику или Всевышнему. Но разве Б-г, скажите, кому-нибудь когда-нибудь хоть раз толком ответил?
В тот теплый апрельский день тридцать шестого года, когда Шимон в очередной раз сел в поезд, Г-сподь послал ему в попутчики настоятеля йонавского костела Клеменсаса Науялиса, которому он совсем недавно подбил на стоптанных чешских ботинках подметки. С тех пор как ксендз Науялис принял приход, он чинил обувь только у своего соседа – Шимона Дудака. Не тащиться же святому отцу к сапожнику-литовцу за двадцать с лишним километров в Кедайняй или Укмерге, когда тут, в Йонаве, только перейди на другую сторону улицы и толкни рукой дверь любой сапожной мастерcкой, как хозяин-еврей тут же прибьет каблук или набойки.
Настоятель, высокий поджарый старик, поклонился Шимону и, чуть-чуть подтянув к коленям длинную сутану, примостился напротив на отутюженной до блеска скамье.
Наклонил свою заросшую рыжими лохмами голову и Шимон, который почему-то вдруг вспомнил, как много лет назад, незадолго до того, как по царскому указу всех иудеев выселили из прифронтовой Йонавы в Белоруссию, объявив их немецкими шпионами, сердобольный настоятель чуть ли не с амвона предложил обратить желающих в христианскую веру, которая является самым надежным и безопасным прибежищем для гонимых. Но охотников креститься в местечке не нашлось, а покойный рабби Гедалье, якобы встретившийся с Науялисом возле литовской гимназии, попечителем которой был президент Сметона, попросил его напрасно не искушать людей, сказав, что евреи родную мать на лучшую не меняют.
– В Каунас? – из приличия спросил настоятель у прильнувшего к окну Дудака.
– Угу, – пробормотал Шимон и уставился на знакомые ксендзовские туфли.
– Желаю приятного путешествия, – процедил Науялис и печально добавил:
– А я на похороны. Племянник умер. Заворот кишок.
Дудак вздохнул. Жаль, конечно, племянника, но Шимон все слова сочувствия приберегал для сына Шмулика: до свидания с ним ему не хотелось их расплескивать и тратить на посторонних, даже на таких почтенных, как настоятель Науялис. Только начни разговор о том, о сем – и проговоришь о пустяках всю дорогу. Но и молчать было неудобно – священник явно рассчитывал на сочувствие.
– Молодой? – выдавил Шимон, скорбным тоном выразив попутчику свое соболезнование.
– Семнадцать...
– Мог бы еще жить и жить, – сказал сапожник.
– А вы... вы к кому? Тоже к родственнику? – с пастырской непосредственностью поинтересовался благодарный за сочувствие Науялис. Ему и в голову не приходило, что сапожник едет к арестанту.
– К родственнику, – ухватился Шимон за возможность не соврать, но и не сказать правду.
Получив уклончивый ответ, ксендз благоразумно замолк и погрузился в свои похоронные раздумья, а Шимон с облегчением снова прильнул к окну, за которым как прежде мелькали озябшие от бедности хаты и бродили те же самые непривередливые и любопытные коровы, сумевшие, казалось, догнать поезд..
Шимон и впрямь ехал к родственнику – парикмахеру Менахему Сесицкому, у которого всегда останавливался и который служил его поводырем по запутанным каунасским лабиринтам. Родство было дальним – через Фейгину бабку, но Менахем не только от него не отмахивался, а, наоборот, всячески его подчеркивал и изо всех сил старался укрепить. Долгое время Сесицкий, удравший в юности из опостылевшего родительского дома, в поисках счастья скитался по Франции, куда он попал Б-г весть какими путями, но, как сам шутил, из-за врожденной близорукости никакого счастья там так и не нашел. И все же, бедолага, не сгинул: случайно попал к Лео Десятнику, земляку и владельцу маленькой парикмахерской, который пожалел бродяжку и устроил его в своем заведении мойщиком зеркал и подметальщиком волос. После того как старательный Менахем ведрами перетаскал половину Сены и вымел из хозяйского салона целые стога чужих волос, Лео Десятник научил Сесицкого своему ремеслу, позволив ему на первых порах самостоятельно стричь и брить только бедствующих художников и сутенеров и зарабатывать на хлеб и вино, на табак и на непритязательных женщин. Менахем остался бы во Франции навсегда, но его благодетеля хватила апоплексия, салон перешел в другие руки, и уволенный новой хозяйкой Сесицкий, не найдя работы, решил вернуться на родину, чтобы, взяв в Еврейском банке ссуду, открыть собственное заведение. Первое, что Менахем по возвращении в Каунас сделал, это заказал на французском и литовском языках шикарную вывеску: «М. Sesicki, coiffeur de Paris» («М.Сесицкий, парикмахер из Парижа»). Клиенты тут же клюнули на наживку, и вскоре он снова мог заработанные деньги тратить на то, что он любил, – на хлеб и на вино, на табак и на непритязательных женщин.
Попрощавшись с настоятелем, которого на пустом перроне дожидалась какая-то высокая, сгорбившаяся женщина в длинном черном платье и в черной шляпке с вуалью, Шимон заторопился к Сесицкому, жившему неподалеку от Слободской ешивы.
Менахем встретил его шумно, с привычной искрометной приветливостью:
– Bon jour, Шимон! Вос махт а ид?
Сесицкий говорил на идише, удобренном для важности кстати или не кстати неудобоваримыми французскими специями, всякий раз стараясь своим радушием и пылкостью воспламенить дряблый фитилек тускнеющей Шимоновой надежды на скорое освобождение его сына Шмулика, осужденного за нелегальный переход границы с Советским Союзом на четыре года заключения в тюрьму строгого режима.
– Все будет tries bien! – утешал он Дудака. – Ваш Шмулик малость посидит за решеткой и, став в четыре раза умней, вернется в Йонаву и возьмется не за древко красного знамени, а за молоток и шило...

– Не станет и не возьмется, – хмуро промолвил Шимон. – Не хочет человек башмаки чинить, хочет починить мир… Но ведь даже Г-споду Б-гу не под силу починить свое творение.
– Когда-то, когда мне было двадцать, я тоже в таких чинильщиках ходил. Вступил даже в partie socialiste. Еще бы: Liberte! Fraternite! Egalite! У какого еврея при этих словах не закружится голова? Но я вовремя сказал себе: «Стоп!» и остановился. Остановится и ваш Шмулик. Мамины креплех и телячья печенка лучше, чем тюремная похлебка.
– Дай-то Б-г, дай-то Б-г… – зачастил Шимон, и взгляд его наполнился теплой печалью, как у коров на лугу, провожавших мчащийся мимо них поезд.
– И я за свои делишки, наверно, угодил бы в Бастилию или в какую-нибудь другую кутузку, если бы не amuor – моя незабываемая Франсуаза, богиня из Марселя. Она затмила всё. Tout, tout, tout! Всех вождей мирового пролетариата, вместе взятых. Вы не представляете, что это была за женщина! Не женщина, а – богиня. Встретит свою Франсуазу и ваш Шмулик.
По правде говоря, старый Дудак больше понимал в ботинках, чем в женщинах. Он обитал не в обычном, а в особом, как он его называл, тихом и не воинственном мире ног, еврейских и гойских, здоровых и больных – с выпирающими косточками, с заскорузлыми пятками, с мозолями и с натоптышами на плоских ступнях. Все страсти, обуревавшие радетелей за счастье человечества, кроме одной – обуть каждого человека так, чтобы ему было легче ходить по земле, – были Шимону совершенно чужды. Но, не желая обидеть своего гостеприимного родича, он вслед за ним повторял:
– Ага, ага, как же, как же… Не зря же Б-г сотворил для нас Еву… Но Шмулик уже давно свою богиню – Тайбе – встретил. Она сейчас в третий раз беременна… на седьмом месяце… Ждем в июне прибавления. А в доме, Менахем, уже двое готовеньких… мал мала меньше... Да вот беда – их кормилец как нарочно всякий раз ухитряется попасть из супружеской постели на нары тогда, когда его богиня либо рожает, либо готовится рожать...
– Не отчаивайтесь! Помяните мое слово, ваш Шмулик в один прекрасный день скажет себе: «Qa sufie!»
Cтарик в испуге выпучил глаза.
– Скажет: «Хватит!» Вспомнит о своей Тайбе и наконец поймет, в чем больше всего нуждаются «проклятьем заклейменные» евреи. В свободе? Черта с два! В равенстве? Чушь собачья! В братстве? Нет и тысяча раз нет! Лев не уляжется рядом с ягненком, ястреб никогда не побратается с голубем или с петухом. Свободными, равными и братьями всех делает смерть. Разве я не прав?
Шимон пожал плечами…
– Евреи, mon cher ami, – продолжал Сесицкий, – нуждаются лишь в одной единственной Б-жьей милости: чтобы другие оставили их в покое и чтобы они оставили в покое других – не баламутили никого болтовней о светлом будущем. Пусть все эти другие – литовцы, французы, русские, китайцы, негры – сами топают к этому светлому будущему без наших призывов и советов. А уж куда притопают, это их дело. Тем более, что его, этого светлого будущего, в природе вообще не существует. Ни для кого!
Сесицкий обожал отводить душу хвастливым враньем и нахватанными в Париже приперченными остроумием премудростями. Ему доставляло удовольствие долго и вдохновенно кому-то что-то доказывать, с кем-то, пусть и с невидимкой, запальчиво спорить, кого-то громогласно вразумлять, отчего жизнь из навязанной и непрерывной докуки превращалась в занятное и не надоедливое представление.
Многое, о чем с таким напором и пылом говорил Менахем, было недоступно простонародному, не испорченному вычурностями уму Шимона. Его раздражали французские вкраплины в понятный, как восход солнца, светоносный местечковый идиш, но Дудак обуздывал свое раздражение и щедро платил Менахему за постой и доброту беспрекословным, ничем не замутненным вниманием. Несмотря на то что манерный, женственный Сесицкий порой казался ему ненастоящим, игрушечным, напоминал набивное чучело птицы с редкостным опереньем, Дудак терпеливо сносил его поучения и обличения и в том, что евреям не пристало совать свой длинный нос в чужой огород, был с Менахемом полностью согласен, ибо случись что-нибудь, и «огородники» оттяпают у них этот нос вместе с головою.
– Говорить с вами всегда интересно, но мне, Менахем, пора, – мягко заметил Шимон. – Дорога туда не близкая. Пока доберешься, пока охрана тебя обшарит, и день пройдет. – И, как бы оправдываясь, добавил: – А сегодня я опаздывать не имею права: у Шмулика тридцать второй день рождения.
– Мазл тов! – воскликнул Сесицкий. – Как говорят французы, bon anni-versaire. Примите мои поздравления. Но, ради Б-га, не торопитесь. У нас с вами еще уйма времени. Посидим, чайку попьем, потом возьмем извозчика и с Б-жьей помощью домчимся до именинника.
Менахем засуетился, юркнул на кухоньку, огороженную ширмой с крупными аляповатыми цветами от единственной комнаты, обставленной с холостяцкой вольностью и бестолковостью: стол, два колченогих стула, тахта, стены, обклеенные бумажными дамами в неглиже и купальниках и украшенные выцветшими фотографиями Сены и улочек Латинского квартала, на ночнике гипсовая Эйфелева башня – сумбурная память о Париже. Из-за ширмы донеслось беззлобное шипение примуса, и вскоре явился сам Сесицкий с треснувшим подносом в руке, на котором голубел початый пакет бисквитного печенья и дымились две чашки ароматного чая.
– А какой мне придумать для вашего Робеспьера подарок? Погодите, погодите, что если я преподнесу ему флакон замечательного одеколона с пульверизатором? Но кому в этой клоаке нужны ароматы рая?
– Никому, – успокоил его Дудак. – У меня полный чемодан. Фейге положила и пирог с изюмом, и кулек с черносливом, и семечки, и даже его любимые лепешки с луком...
– Ого!..
– В прошлом году я ему на Пасху и мацу привез.
– Наверно, ваш безбожник, которого клянется вывести из неволи этот рябой Моисей – Сталин, послал ее обратно?
– Нет. В Б-га Шмулик не верит, но мацу может есть круглый год без остановки. Особенно мацовые галки с корицей.
– Будь у меня такие отец и мать, я бы, ей-Б-гу, годами из каталажки не вылезал, просил бы у судей дополнительный срок. Сидел бы да сидел и мацовые галки наворачивал... Балуете вы своего революционера, mon cher... – Сесицкий вдруг погрустнел. – Мои родители меня не жалели. Отец от своего любимого первенца в Америку укатил, а мама за другого злодея выcкочила... тот каждый день меня кулаками угощал... До сих пор отрыгиваю его угощениями…
– А сегодня... сегодня Шмулика ждет сюрприз, – увел Шимон Сесицкого от отчима-злодея.
– И чем же вы его на сей раз обрадуете? Рубленой селедочкой? Шейкой с гусиными шкварками? А, может, цимесом с говядиной или медовыми пряниками на закуску? Специально к празднику пролетариев всех стран – к Первому Маю, – подначил Дудака Менахем.
– Насчет пирога с изюмом и гусиной шейки вы как в воду глядели...
– А что же у вас в чемоданчике вместо всего остального?
– Ботинки... Новые летние ботинки. Легкие, с дырочками, чтобы ноги не потели, – с гордостью сказал Дудак.
– Что вы говорите! Nouvelles chaussures! Легкие, с дырочками, чтобы ноги не потели?.. Сшили на глазок, без примерки? – осыпал его вопросами изумленный Сесицкий
– Почему на глазок? Размер знаю... Я его знаю с ног до головы... Каждую родинку... каждую...
– Г-споди, Г-споди! Ах, уж эти les meres et peres juives[1]! – не сдержался Менахем. – Ваши сыновья, вместо того чтобы до изнеможения работать, растить своих детей, помогать вам на старости, вместо всего этого бросают вас на произвол судьбы, сводят до срока в могилу, валяются в тюрьмах, а вы, сумасшедшие, несетесь к вашим любимчикам с полными чемоданами шеек с гусиными шкварками, пирогов с изюмом, брусничным вареньем, мацой, ботинками из телячьей кожи, вязаными носочками и еще черт знает с чем! – Сесицкий надкусил залежалое печенье и, отхлебнув из чашки чай, продолжал: – Вы хоть понимаете, кому вы все это добро везете?
Шимон слушал и не перечил: в шейках с гусиными шкварками, в пирогах с изюмом и в вязаных носочках он не видел ничего дурного.
– Вы все это везете лодырям и дармоедам, которые строят из себя героев и спасителей человечества. Для того чтобы бряцать наручниками, не нужно быть героем. Достаточно быть идиотом… Перейти чужую границу без разрешения или расклеить на заборе какие-нибудь паршивые листовки – и бряцай себе на здоровье. Это мы с вами настоящие арестанты, а не ваш Шмулик со своими компаньонами. Мы! – выпалил Менахем...
– Мы? – опешил Шимон. Он никак не мог уразуметь, почему он и Сесицкий – арестанты, а отбывающий четырехлетний срок Шмулик – нет, но решил «француза» больше ни о чем не спрашивать, встать и уйти.
– Да, да, это мы – арестанты, те, кто добывает свой хлеб насущный в поте лица. Вы, конечно же, спросите, почему.
Но Шимон и не думал его спрашивать. Спросишь и задержишься еще лишних полчаса.
– Сколько лет вы, арестант Шимон, сидите за колодкой, как за решеткой?
– Сорок пять, – растерянно ответил Дудак и двинулся к двери.
– Вы уже отбухали срок в десять с лишним раз больший, чем получил ваш Шмулик, которому, видно, и в голову ни разу не пришло, что для каждого порядочного еврея самая лучшая тюрьма – это работа до седьмого пота, – прострекотал Менахем но, заметив, что Шимон взялся за дверную ручку, воскликнул: – Куда вы? Мы ведь еще чай не допили!
– Вы, Менахем, пейте, а я пойду. Я и так засиделся, – сказал Шимон, обескураженный его странными сравнениями и не готовый ни на какие уступки.
Сесицкий встал из-за стола, быстро накинул на себя поношенный демисезонный плащ, сунул ноги в расшнурованные ботинки и неохотно последовал за Дудаком, оборвавшим со стариковской бесцеремонностью разговор. Менахем к Шмулику еще ни разу не ездил, он мог и сейчас остаться дома, но ему хотелось чем-то услужить Шимону – хотя бы подвезти к сыну на извозчике, чтобы старик не тащился пешком с пирогами в такую даль.
К счастью, извозчик тут же за углом и подвернулся.
– Куда, господа, изволите? – спросил он, попридержав свою гнедую.
– В тюрьму! – сказал Сесицкий по-литовски. – Туда и обратно!
– А хин ун цурик? – озадачил его возница. – Ир кент мит мир рейдн ойф идиш[2].
– Чудеса! – воскликнул Менахем и помог взобраться наверх грузному, одышливому Шимону. – Вы говорите по-нашему. Но вы же не еврей?
– Покамест нет, – рассмеялся тот и, чтобы набить себе цену, произнес: – Майне брейтгеберке фарштейт ойх ойф идиш[3].
– Ир херт, Шимен, зайн бехейме фарштейт ойх ойф идиш[4], – обратился Менахем к приунывшему Дудаку, но тот не откликнулся. Откинувшись на полог извозчичьей коляски, Дудак, борясь с дремотой, безмолвно просил Всевышнего, чтобы охрана не пропустила Сесицкого к Шмулику: еще сцепятся друг с другом так, что без помощи охранников их и не разнимешь. Пусть не утруждается – он, Шимон, передаст сыну его слова. Правда, о том, что Шмулик – лодырь и дармоед, даже не заикнется. Тут Менахем по своему обыкновению хватил через край, хотя он в чем-то, наверно, и прав, работа и впрямь как тюрьма, только добровольная, желанная, Б-гом благословенная, в которой человек одновременно и узник, и надсмотрщик.
– Ин велхе тюрьме дарфт ир?[5] – натянув вожжи, прогудел возница, заждавшийся ответа. – В желтую – уголовную? Или в политическую – в Девятом форту?
– В Девятом форту, – объяснил Шимон.
– Цум найнтн форт, – сказал извозчик своей гнедой и не преминул уязвить: – Мен зогт, аз дортн зицн нор идн, велхе вейсн бесер фун ундз, ви ундз, ди литвинер, махн гликлех[6]. Но-о! Но-о!
Девятый форт находился на подступах к Каунасу.

Извозчик время от времени дружески покрикивал на свою кормилицу: «Но-о!», напевал себе под нос бойкую песенку, широко бытовавшую в тогдашнем Каунасе и вызывавшую припадочный восторг у ресторанной публики: «Давай с тобой, Марите, потанцуем, начнем наш танец страстным поцелуем». Под эту незамысловатую и прилипчивую мелодию, цокая по булыжной мостовой, пританцовывала гнедая, в глубине повозки дремал умаявшийся Дудак, а угомонившийся Сесицкий, в кои веки вырвавшийся за город, во все глаза смотрел на облагороженные зеленью поля и на придорожные деревья, только-только примерившие на себя весну.
Наконец извозчичья коляска свернула с булыжника на проселочную дорогу и, дребезжа рессорами, подкатила к старинной крепости, когда-то построенной для защиты присвоенных Россией у соседей и объявленных ею священными рубежей, а затем превращенной вольными литовцами в тюрьму строгого режима – преимущественно для мечтательных провинциальных евреев, страждавших вселенской справедливости. Возница соскочил с облучка, достал из латунного портсигара гильзу популярной «Аромы», закурил и, затянувшись желанным дымком, сказал:
– До варт их ойф айх[7].
У входа в тюремную комендатуру Шимона и его провожатого остановил рослый часовой с чешской винтовкой наперевес и сурово и хмуро потребовал у незнакомцев документы.
– Вы, наверно, помните меня, – пытаясь его задобрить, на ломаном литовском, простительном для сапожника-еврея, пробасил Шимон.
– Не помню, – тут же подсек надежду старика охранник.
– Я к сыну... К Шмуле Дудаку.... Вот мой документ, – и Шимон, волнуясь, извлек из-за пазухи и протянул стражнику выданный в далеком двадцатом году паспорт гражданина Литовской республики.
– А вы к кому? – покосился на Сесицкого служивый.
– К нему же... К моему племяннику, – смело соврал Менахем, убежденный, что вранье и невозмутимость способны открыть на белом свете все засовы.
– Подождите, – сказал охранник и исчез, не вернув, однако, паспорта .
– Как вам этот Наполеончик? – запахивая от ветра плащ, пробурчал Менахем, когда часовой скрылся из виду.
Шимон смолчал.
Через некоторое время верзила вернулся в сопровождении молодого, щеголеватого офицера в новехонькой гимнастерке, красиво облегающей его упругое, пружинистое туловище.
– Я из Йонавы... к сыну, – повторил Шимон. – Сегодня у него день рождения... исполняется тридцать два года. Можно поздравить и передать… – Тут он осекся и ткнул пальцем в парусиновый чемоданчик.
– Очень сожалею, господин Дудак, – выдохнул офицер и молодцевато подтянул ремень с медной пряжкой. – Но ваше свиданье сегодня не состоится... Ваш сын Шмуле Дудак...
– Что? – нетерпение и страх склевали у Шимона все слова, горло словно зашили дратвой, глаза округлились, он беспомощно уставился на Сесицкого, который нервно перегонял из стороны в сторону купленное еще на Монмартре ворсистое кашне.
– Ваш сын в карцере и до конца мая права на свидания лишен... Я очень сожалею...
– Г-споди, Г-споди, – запричитал Шимон. – А я-то сперва подумал... подумал, что... А он, слава Тебе, Г-споди, в карцере. – И то ли от радости, то ли от досады расплакался.
Пока родственник неуклюже размазывал рукой по лицу, заросшему колючками, слезы, Сесицкий попытался вступить со щеголем в переговоры, чтобы тот согласился хотя бы принять и передать Шмулику привезенные отцом подарки – не везти же их обратно в Йонаву. Но тюремщик был непреклонен.
– Не положено... У нас не склад, а место отбытия наказания... И торг тут неуместен.
– Господин офицер, вы правы... Но представьте на минутку, что это не Шмуэл Дудак сидит за решеткой, а, mil pardon, это вы находитесь там собственной персоной и к вам из деревни приезжает ваш старый-старый отец Йонас…
– Моего отца зовут Антана
с.
– Простите. J'ai pas eu l'honeur de le renсontre'[8]. Итак, в день рождения ваш отец Антанас из родной деревни привозит вам в Каунас окорок, банку липового меда, кружок овечьего сыра и... новые ботинки с дырочками, чтобы ноги у вас в жару не потели...
– У меня никогда в жару не потеют ноги, – обиделся щеголь. – Я очень сожалею, но свидание отменено, и незачем мне с вами спорить, господа.
– Понятное дело, вы человек занятой. Но ботинки... хоть ботинки для моего племянника возьмите...И пирог с изюмом...Мой племянник и вас, господин лейтенант, угостит – пальчики оближете. Насколько мне известно, употреблять пищу в карцере не запрещается, как не запрещается, когда приспичит, еще кое-что делать...
– Ваш племянник не голоден и босиком не ходит, – ощетинился господин лейтенант. – Закон есть закон. Милости просим в конце мая – в начале июня...
– Gros pors[9]! – прошептал Менахем.
– Что вы сказали?
– Я на древнееврейском сказал вам «до свидания».
– Когда кто-нибудь уходит отсюда, лучше говорить «прощайте», – почувствовав подвох, набычился офицер и, поклонившись, с сознанием собственного достоинства, отправился выполнять свои обязанности – оберегать Литву от евреев, покушающихся на ее неокрепшие основы.
– Фар вос азой гих[10]? – удивился возница. – Эфшер дарфт ир нит ин а андере тюрьме[11]?
– Нет. Просто с первого взгляда нас оправдали и тут же отпустили на все четыре стороны, – невесело пошутил Сесицкий. – Поехали!
Весь обратный путь в город был вымощен молчанием – вокруг молчали зазеленевшиеся поля, принарядившиеся деревья, отогревшиеся за зиму птицы и даже гнедая, понимавшая на идише. Не проронили ни звука и Шимон с Менахемом, только возница чуть слышно мурлыкал свою любимую песенку «Давай с тобой, Марите, потанцуем» да ржаво стучали несмазанные колеса.
Подъехав к дому, Сесицкий вытащил из штанов потрепанный бумажник и, расплатившись с извозчиком, поднялся с Шимоном на третий этаж в свою холостяцкую мансарду.
– Не огорчайтесь, – швырнув на тахту свой плащ, промолвил Сесицкий. – Ботинки – не скоропортящийся товар. А шейку с гусиными шкварками и все остальные прелести оставьте мне. Мой желудок, entre nous, давненько не баловался такими delicateces. С вашего позволения, я всласть полакомлюсь сам и угощу свою бедную подружку – маникюршу Дану из Пильвишкиса. Увы, не Франсуазу... Оставите?
Шимон тряхнул своими лохмами.
– Спасибо. И не вешайте, mon cher ami, носа, два месяца пролетят незаметно, и вы снова увидитесь с вашим Робеспьером.
– А если он что-нибудь опять натворит?
– Не натворит. Найдите хоть одного не повредившегося в рассудке еврея, которому через час не наскучило бы общество этих писклявых chansonettes – вечно голодных тюремных крыс... Переночуете у меня, а утречком я посажу вас на поезд, и к обеду вы будете в Йонаве. Раздевайтесь, дорогой Шимон, прилягте на тахту и забудьте про сегодняшнюю неудачу. Если в жизни и стоит о чем-то помнить, так это только о хорошем... молодость... любовь... пироги с изюмом.
Легко сказать – помнить... Шимону казалось, что, кроме пирогов с изюмом, которые в канун праздников исправно пекла Фейге, в жизни у него вроде бы ничего хорошего и не было – ни любви, ни молодости. Были только работа, работа и еще раз работа да долгое и напрасное ожидание чего-то такого, чему он сейчас, в старости, не может найти подходящего названия. Вся жизнь чем-то походила на эту поездку в Каунас – терпеливо ждешь встречи с тем, что тебе дорого, а все дорогое только отдаляется и, как ни протягивай к нему руку, как ни кричи: «Куда ты? Остановись!» – ускользает от тебя словно облако.
Оставаться на ночь у Сесицкого, выслушивать его нравоучения, поить в потемках своей кровью клопов, ворочаться с боку на бок у Шимона не было никакого желания, но не было у него и другого выхода – пешком до Йонавы не дойдешь. Насытившись за день разговорами, Дудак решил чем-то заняться и, не найдя ничего лучшего, стал разгружать от провизии чемодан и выкладывать на стол приготовленные Фейгой кушанья.
Менахем с неподдельным интересом наблюдал за его возней, изредка, в знак благодарности, раздувал свои широкие розовые ноздри и шумно вдыхал заманчивые, еще не выветрившиеся из памяти запахи маминых блюд. Он задумчиво, с печальным обожанием и пронзительной жалостью смотрел на Дудака, словно собирался попросить у него прощения за то, что изгалялся над всеми этими Franterite, Libertie, Egaitie и наговорил кучу гадостей про его сына-страдальца. Сесицкий вдруг поймал себя на мысли, что, может, они, эти праздные мечтатели и безумцы, не вылазящие из карцеров и с гордо поднятой головой идущие на плаху, во стократ счастливее их, сапожников и парикмахеришек, которые с утра до вечера ради какого-нибудь лишнего франка или лита корпят в своих мастерских и видят перед собой не радужные дали, а только грязные бороды или стоптанные подметки? Слова нахлынувшего раскаяния вертелись у Менахема на языке, но он не отваживался их произносить вслух, чтобы не уронить себя в глазах Шимона.
Странное чувство томительной пустоты захлестнуло Менахема, когда Шимон опорожнил свой парусиновый чемоданчик, на дне которого остались только ботинки, завернутые в пожелтевшую еврейскую газету, как трупики в саван.
– Не захлопывайте свой чемоданчик, – cказал Сесицкий Шимону. – Дайте полюбоваться на ваше искусство.
– Ботинки как ботинки, – отнекивался Дудак. – Ничего особенного. Не на что смотреть.
– И все-таки покажите!
Шимон неохотно достал свое изделие и, расстелив газету, поставил на стол.

– Люкс! – воскликнул Менахем. – Обязательно приеду в Йонаву и закажу у вас такую пару. Может, даже две пары. Одну – с дырочками, а другую – без. В Каунасе, как и на Елисейских полях, жуткие цены. Ваша братия семь шкур с клиента дерет, – он подержал на весу оба ботинка, повертел их, погладил телячью кожу и сказал: – Замечательные ботинки. Чтобы зря не пылились под кроватью, выставите их в окне.
– В окне?
– Мой первый учитель – мсье Лео Десятник говорил: un panneu et une vitrine – le visage du travailleur[12]. Как только приедете, так сразу и поставьте их вместо цветов на подоконник. Глядишь, и заказчиков прибавится.
– На мой век и прежних хватит, – сказал Шимон.
Стемнело. Сесицкий не стал зажигать света, расстелил драный матрас на покоробившиеся половицы и улегся, как мертвец, а Шимону уступил тахту, над которой cпокойно, неизвестно куда, может, вспять, во Францию, текла снятая уличным фотографом Сена.
Всю ночь старик не смыкал глаз. Под утро сон его сморил, и ему приснился белый корабль с высокими мачтами; на корме – он со Шмуликом, оба в наручниках, беременная Тайбе в окружении своих девочек и Фейге в переднике, разделывающая какую-то хвостатую рыбу. Корабль плывет будто бы не по морю, которое никто из Дудаков никогда в глаза не видел, а по суше, по щербатой местечковой мостовой, за кораблем гонятся собаки и мальчишки; и вдруг он медленно, возле их дома, на виду у соседей начинает погружаться в землю, как в пучину...
Дурные предчувствия, навеянные этим нелепым сном, томили Шимона до самой Йонавы.
Как только он переступил родной порог, Фейге и отяжелевшая Тайбе обступили его и стали наперебой расспрашивать, как там Шмулик. Отвертеться было невозможно, но и вдаваться в подробности ему не хотелось. Не станешь же им рассказывать о карцере, пугать крысами, железными решетками на окнах, вооруженной охраной, описывать одичавшего Сесицкого с его бесконечными наставлениями и советами, излагать свой сон о корабле-призраке, плывущем по местечковой мостовой и погружающемся в землю. Тайбе, не приведи Г-сподь, от страха еще до времени разродится.
– Шмулик шлет вам привет... целует девочек... скучает, – короткими, как вздох, предложениями пытался отделаться от вопросов Шимон...

– А как ботинки? Понравились? – поддела его настырная Фейге, недовольная сбивчивым рапортом мужа.
– Ботинки?.. Ботинки немножко жмут... – соврал Шимон.
– Жмут? Что ты говоришь! – заохала Дудакова. – Ты же так старался... так старался…
– Ничего... Кожа мягкая, как-нибудь к следующему свиданью растянем, – буркнул Шимон и, желая переменить разговор, обратился к Тайбе. – А как, доченька, твоя работа – жмет?
– Жмет, – рассмеялась та.
– Идет к концу?
– Идет, идет. Думаю, Шмулик не забракует, – потупила глаза Тайбе.
В доме ждали мальчика – две невесты уже в нем гомонили.
– Будет мальчик. Будет, – пророчила Фейге. – Точно так носила я Шмулика... Он все время барабанил ножками в низ живота и норовил поскорей пробиться к выходу... Видно, в Каунас, в тюрьму спешил…
Внук должен был родиться в конце мая, и Шимон надеялся, что ему удастся к следующему свиданию со Шмуликом привезти в Каунас не только отрадную весть, но и фотографию мальчугана. Может, поэтому Шимон начинал за колодкой каждый новый день со счета, как с молитвы, – седьмое мая, десятое, пятнадцатое...
Весна запаздывала, было холодно и сыро, в Йонаву нет-нет да в гости наведывался мокрый снег, и никто из домочадцев Шимона особенно не удивился, когда он стал покашливать. Фейге, которая в доме была и за кухарку, и за лекарку, поставила ему банки, напоила каким-то отваром, но кашель не унимался, а усиливался с большей яростью.
– Надо, мам, позвать Фраймана. Пусть его послушает, – посоветовала Тайбе. – Отец уже откашливает с кровью.
Доктор Фрайман лечил в Йонаве всех и от всех хворей, утверждая то ли в шутку, то ли всерьез, что самая опасная и распространенная болезнь на свете – это жизнь. В местечке он слыл бессребреником и вольнодумцем, курил по субботам затейливую трубку, ходил в костел слушать органную музыку, произносил варварские для слуха своих пациентов слова «Бах... Гендель... Фуга... Аллегро модерато…», но люди ему все прощали за доброту и бескорыстие.
Как Шимон ни упирался, Фейге все же Фраймана позвала.
Доктор вошел в комнатку, где на высоких пуховых подушках в расстегнутой рубахе покоился осунувшийся Шимон и, поздоровавшись, снял пальто, из-под которого торчали края белоснежного халата, поправил на переносице пенсне, достал из потертого саквояжа слушалку и принялся ею водить по заросшей, как лесная поляна, густой растительностью груди больного.
– Щекотно, доктор! – тяжело дыша, сказал Дудак.
– От щекотки еще никто не умер, – Фрайман вытер со лба испарину и приказал: – Дышите, реб Шимон! Глубже, еще глубже. Повернитесь, пожалуйста, на бок. Теперь на другой… Вдохните!.. Выдохните! Так, так... – Чем тише он такал, тем больше мрачнел.
За дверью нетерпеливо ждали приснившиеся Шимону перед погружением корабля в землю, как в пучину, Фейге в переднике и Тайбе со спелым, словно подсолнух, животом.
– Вам, реб Шимон, не мешало бы в Каунас съездить... В Еврейскую больницу...
– Но у меня столько заказов, – просипел Шимон.
– Заказы – не хворь, подождут... Могу дать рекомендательное письмо к доктору Рафаэлю Лившицу... Он замечательный специалист. Сделает снимок ваших легких и скажет, что надо делать. В мою трубочку все слышно, но не все видно. Ясно одно: одними банками и горячими чаями тут, к сожалению, не обойдешься, – нарочито громко, чтобы слышали притаившиеся за дверью женщины, сказал Фрайман.
– Но ведь я только-только оттуда, – пояснил Шимон.
– Откуда? Из больницы?
– Да нет, – умолчав о тюрьме, сказал хозяин.
– Поезжайте, поезжайте! Они там и латают и шьют, и из мертвых воскрешают. – Фрайман накинул на плечи пальто, надвинул на лоб шляпу и откланялся.
Встревоженные Фейге и Тайбе уговаривали Шимона, чтобы он поехал в Каунас, но тот их уговорам не внял, а когда согласился, ему уже нельзя было помочь.
Старого Дудака похоронили сразу же после Швуэс – праздника Пятидесятницы. Народу или, как он при жизни сам выражался, знакомых ботинок на кладбище собралось много. Не хватало только шевровых туфель настоятеля Клеменсаса Науялиса, которому Шимон шил и чинил обувь с незапамятных времен и который не то что с мертвыми евреями – с большинством живых-то почти никакого дела не имел, хотя и называл их почему-то старшими братьями.
Овдовевшая Фейге ничего, кроме лопаты могильщика Хоне, блестевшей на солнце, не видела – стояла и безостановочно приговаривала:
– Шимон! Шимон! Как ты мог оставить меня одну!..

С помощью зятя Давида, мужа старшей дочери Рохцы-Пожар, безутешная Фейге к «шлошим» – к тридцатидневному сроку – поставила на могиле скромное надгробье из серого полевого камня и каждый четверг, с полудня до захода солнца, поливала его горючими слезами, пока в доме наконец не свила гнездышко радость – появился новый человек, названный в честь дедушки Шимоном.
Тайбе написала узнику-мужу письмо, и вскоре из Каунаса на тетрадном листе в клетку от Шмулика пришел ответ. Закончив в первых строках с поздравлениями жене по поводу рождения сына, он перешел к поношению тюремного начальства, которое не пустило его в Йонаву на похороны, всячески утешал мать, а напоследок попросил прислать ему фотографию маленького Шимона – мол, непременно поставит ее на самом видном месте в камере – на крохотный столик под нарами, и заверил всех, что скоро вернется.
– Никаких фотографий, – сказала невестке Фейге. – Нечего к нему сына подсаживать. Пусть папаша свой срок отсидит в одиночестве. Может, за ум возьмется.
Благодаря Красной Армии Шмулик отсидел чуть меньше положенного срока и все-таки то, о чем все время мечтал и за что так ратовал, высидел: новую власть и новую должность. В сороковом году вся Литва заполыхала красными флагами с серпом и молотом; танки с пятиконечными звездами на броне вошли в Каунас и взяли в кольцо Девятый форт; тюремные камеры распахнули перед политзаключенными свои двери, и Шмулик, вернувшись в Йонаву, дождался-таки светлого и безбедного для себя будущего: его назначили заместителем начальника йонавского отделения НКВД.
Назавтра после возвращения из, как сказал бы просвещенный Менахем Сесицкий, литовской Бастилии Шмулик в новехоньких ботинках, сшитых ему отцом ко дню рождения, еще в штатском, еще без мундира и форменной фуражки, без шпал в петлице и без кобуры на отощавшей на нарах заднице, отправился вместе с четырехлетним Шимоном на еврейское кладбище. Могильщик Хоне, лучший друг и заступник всех мертвых, провел начальника к серому полевому камню с высеченным магендовидом и надписью на непонятном Шмулику древнееврейском языке.
– Что тут, Хоне, на камне написано? – спросил он у могильщика, никогда не расстававшегося с самокруткой и лопатой.
– Ничего плохого, товарищ Дудак, – заверил Шмулика Хоне. – Это – буква «пэ», а это – «о»... А вместе будет «По нихбар» – «Здесь погребен…» А дальше – имя твоего отца, а чуть ниже – имя его отца – Ицхок. Жаль, что твой отец, реб Шимон, да будет память его благословенна, не дожил до такой нашей общей радости... – гробовщик ухмыльнулся и своей верной лопатой сгреб упавшую на камень хвою.
– До какой общей радости? – поинтересовался Шмулик.
– Шутка сказать – сын сапожника в такие начальники вышел. По-моему, в вашем роду были сплошь ремесленники – сапожники, портные, лудильщики. И ни одного полицмейстера. И вдруг... Теперь выше тебя в местечке только сам Г-сподь Б-г... Раньше, к примеру, как было? Бургомистр – литовец… Почтмейстер – литовец… Евреев в худермудер чужие сажали. Тебя кто сажал? Рабинович? Нет. Петрайтис. А теперь нас, слава Всевышнему, будет сажать свой... еврей. Как ни крути, а от своего и по морде схлопотать приятнее – хоть пархатым не обзовет. Хи-хи-хи...

– Не вижу тут ничего смешного, – посуровел Шмулик .– Кто заслужит, тот по морде и схлопочет.
Хоне замолк. В скорбной кладбищенской тишине вдруг громко застучал дятел, маленький Шимон оглянулся, завертел головой и стал искать, откуда исходит это размеренное постукивание, но мохнатые сосны непроницаемой завесой отделяли мальчика от этого таинственного и несмолкающего звука…
– А кто это там стучит? – скорее к деревьям, чем к отцу и Хоне, смущенно обратился он.
– Это птичка такая, – бросил Шмулик. – Дятел. Выклевывает из-под коры вкусных червячков.
– Это твой дедушка – старый дятел Шимон. Он сидит вон на том белом облаке и молоточком забивает в башмачки херувимов и ангелов шпильки, – сказал могильщик и, перекинув через сутулое плечо лопату, зашагал к другому надгробью.
– Чепуха!– бросил ему вслед Шмулик, веривший не в херувимов и ангелов, а в Ленина-Сталина.
Стук не только не прекращался, но и нарастал.
Тук-тук-тук, – как бы споря с сыном, выстукивал на небесах старый дятел Шимон Дудак. – Тук-тук-тук…
И херувимы, и ангелы, кружась в необъятной горней выси, овевали своими крыльями его фартук и неразлучную колодку…
Март-апрель 2004.
Бат-Ям
[1] Сумасшедшие еврейские мамочки
и папочки!
[2] Вы можете со мной говорить на идише.
[3] Моя кормилица тоже кумекает
на идише.
[4] Слыхали, его скотина тоже кумекает на идише.
[5] В какую тюрьму вам надо?
[6] Говорят, там сидят одни евреи, которые лучше нас знают, как сделать литовцев счастливыми.
[7] Жду вас здесь.
[8] Не имел чести знать.
[9] Свинья!
[10] Почему так быстро?
[11] Может, вам нужна другая тюрьма?
[12] Вывеска и витрина – лицо мастера.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru