[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2005 НИСАН 5765 – 5 (157)
СВИНЬЯ В АПЕЛЬСИНАХ
Яков Шехтер
Эта история произошла в Бней-Браке, городе, словно специально созданном для диковинных историй и удивительных происшествий. Сама по себе она может показаться малозначительной, но опытный летописец непременно обратит на нее внимание. Никогда ведь не знаешь, в какую бездну может закатиться оброненная со стола пуговица…
В один из мясных магазинов, расположенных на улице Рабби Акивы, вошла женщина. Роста она была среднего, худощава, двигалась легко и грациозно. Платье из чуть выгоревшего голубого ситца ладно охватывало фигуру, коротко подстриженные седые волосы создавали вокруг головы подобие сияния.
Оглядев застекленную витрину прилавка, она протянула хозяину листок бумаги и с сильным русским акцентом спросила:
– Есть?
Хозяин взглянул на бумажку и онемел.
Спектакли, которые ставит жизнь, зачастую убедительней любого вымысла. Как должен стараться писатель, ломать голову режиссер, репетировать артист, чтобы достигнуть такого эффекта?! А в жизни случайный человек безо всяких репетиций говорит одно-единственное слово – и наступает тишина.
Впрочем, продолжалась она недолго. Хозяин закрыл рот лишь для того, чтобы немедленно его раскрыть. Нет, он не кричал, речь его была достойна и уравновешенна, но посетительница, даже не разобрав ни одного слова, произнесенного на чужом для нее языке, немедленно ретировалась.

Промокнув бумажным полотенцем обильно выступивший пот, хозяин пригладил бороду и еще раз взглянул на бумажку. Сомнений не оставалось: животное, неумелой рукой изображенное на рисунке, могло быть только свиньей.
– Ну уж это явные сказки! – воскликнет читатель и... ошибется. Конечно, трудно представить такую неискушенность, перемешанную с наивной верой во всемогущество магазинов центральной улицы. Трудно, но можно. Ведь как ни крути, а случай произошел, повергнув хозяина лавки в состояние полной деморализации.
Немедленно заперев дверь, он уселся на стул и, покручивая рукой пейсы – старая привычка, еще с ешиботных времен, – погрузился в размышления. Куда понес его поток мыслей, разобраться совсем не просто, поэтому для начала оглядим внимательнее героя рассказа.
Умеренного телосложения, слегка сутул, высокий лоб, две глубокие морщины на переносице. Очки плотно сидят на внушительных размеров носу, дужка смяла кожу и удобно устроилась в образовавшейся складке. Небольшие пейсы, обычно заправленные за уши, на первый взгляд могут показаться типично «литовскими». Но длина седой бороды, туфли без шнурков, штаны с завязками до середины икр и высокие черные носки однозначно свидетельствуют: их обладатель, человек, мучительно размышляющий о жизни в самом разгаре рабочего дня, – хасид.
Трудно даже представить, в какие дебри самоанализа поверг реб Шлойме неумелый рисунок. Вся его жизнь замельтешила перед мысленным взором, словно страницы забытой на сквозняке книги. Впрочем, время для ревизии такого рода было самое подходящее. Нежданный визит пришелся на пятый день месяца тишрей, самую середину Грозных дней между Рош а-Шона и Йом Кипуром.
– Почему она пришла именно ко мне? – думал реб Шлойме. – Кому придет в голову искать свинину в Бней-Браке? Не ангела ли послал Г-сподь, напомнить о моих прегрешениях?
Одни вопросы порождали другие, другие – третьи. Пугая реб Шлойме неприступным видом и каменной остротой углов, они собирались в глыбу чуть ниже сердца. Так и этак прокручивал он возможные проступки, и чем больше думал, тем страшней ему становилось. Выход из этого кошмара был один: немедленно посоветоваться с раввином.
Хождение по раввинам приняло в Бней-Браке характер повальной эпидемии. О, если б Моше-Рабейну, установивший это правило, мог знать, какими вопросами станут донимать знатоков его Закона! На любое маломальское затруднение тут же находится немедленный ответ – посоветуйся с раввином. Переезжать ли на другую квартиру – стоит поговорить с раввином. С кем из двух врачей поликлиники проконсультироваться – к раввину. Во что вложить деньги на бирже – снова к нему.
Шутники утверждают, будто истинная мудрость состоит в знании, к какому раввину идти в каком случае.
– А что произойдет, – вопрошают они, – если посреди Бней-Брака приземлится летающая тарелка?
И сами же отвечают:
– Улицы опустеют. Дети побегут советоваться с мамами, мамы с мужьями, а мужья с раввинами.
Дело осложняется тем, что из десяти жителей Бней-Брака трое – раввины. Но это вовсе не снимает с них обязанности советоваться с другими знатоками, более сведущими в Законе, а следовательно, и в мудрости жизни.
Бней-бракцы не верят в существование летающих тарелок, пришельцев с других планет и прочую телевизионную нечисть, порожденную средневековыми страхами современного обывателя. В городе нет телевизоров, и оттого этот анекдот вызывает особенную улыбку. Но в соседнем Рамат-Гане, где над каждой крышей торчит антенна, его воспринимают совсем по-другому.
С реб Шлойме дело обстояло несколько проще. Как настоящий хасид, он по любому вопросу обращался к Ребе, всегда получая практический совет и душевное успокоение. Ребе обладал удивительной способностью увидеть последний поворот мысли, сразу оказаться в той точке, которую собеседник еще только пытается нащупать в тумане собственных слов.
Реб Шлойме закрыл магазин и направился прямиком в микву. О миква! Где найти слова, откуда взять краски, достойные повествовать о тебе! Как передать дрожь, пробегающую по телу вступающего под твои священные своды, чем отразить покой, чистоту и отрешенность тех, кто покидает сей прекрасный удел...
Горячий воздух, словно целебный бальзам, смягчает самые заскорузлые души. Обычаи твои просты и суровы, о миква, точно справедливый судья ты взыскуешь лишь истину, обнажая правду, доселе скрытую покровами лицемерия и лжи.
Повесив одежду на крючок в раздевалке, реб Шлойме, стараясь не поскользнуться на влажном мраморном полу, вошел в зал. Четыре бассейна открылись его взору; первый, набитый битком, он прошел, даже не замедлив шага. Во втором резвилось несколько мальчишек, явно перепутав место ритуальных омовений с обыкновенным бассейном. Третий был полон лишь на треть, вода, шурша и захлебываясь, струилась из отверстия в голубой кафельной стенке. В четвертый степенно погружался старик, с багровеющей лысой головой. Лысина то показывалась над паром, стелющимся по поверхности воды, то исчезала в тумане.
Реб Шлойме ухватился за блестящий металлический поручень и начал спускаться по ступенькам. Войдя по щиколотку, он замер, уже во второй раз за последние полтора часа. Жидкость, наполняющая бассейн, походила на плазму в свободном состоянии, на бушующее пламя ада или, в самом крайнем случае, на крутой кипяток. Бросив недоумевающий взгляд на багровую лысину, реб Шлойме ойкнул и быстренько выскочил наружу.
Настоящий хасид любит горячую микву. Неизвестно, откуда берет свое начало этот обычай, но так сложилось, так повелось, и не нам его менять. Свидетельствует ли он о температуре души или о степени отрыва от проблем плоти, а может, извечный дух мужского соперничества дает о себе знать в такой странной форме, кто знает?
Начиная с погружений в бассейн с комнатной температурой, хасид постепенно воспитывает в себе способность купаться чуть ли не в кипящей смоле. И пусть смеются «литовцы» в стриженые бороды, пусть называют это тренировкой, деликатно намекая на расплату, ожидающую в будущем мире последователей Баал-Шем-Това, ничто не остановит хасида перед раскаленной миквой.
«А ведь на прошлой неделе я еще мог! – вздрогнул реб Шлойме. – Не зря этот странный визит, ох не зря».
Шикнув на мальчишек, он вошел во второй бассейн, обернулся лицом к стене и медленно погрузился до шеи.
Окунался реб Шлойме ровно восемнадцать раз. Закрыв глаза, он вспоминал события прошедшей недели, месяца, года. Попросив Всевышнего очистить его от известных и неизвестных прегрешений, набирал полную грудь воздуха и нырял. Вода смыкалась над головой, и становилось тихо. Привычные звуки исчезали, им на смену приходило глухое гудение водопроводных труб. Задержав дыхание, реб Шлойме представлял, как черные пиявки, порожденные его поступками, нехотя отлипают от тела и растворяются в горячей воде.
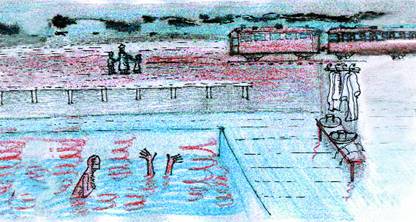
В микву он ходил каждую неделю на протяжении многих лет, и память ни разу его не подвела, услужливо напоминая о пропущенных молитвах, резком тоне, завистливых мыслях. Реб Шлойме отчаянно мычал и немедленно погружался поглубже.
Но в этот раз всё пошло по-другому. Вместо перечня прегрешений перед его мысленным взором вдруг поплыли давно позабытые картины войны.
Поддавшись общей панике, они успели на единственный поезд, ушедший 23 июня из Каунаса. В суматохе посадки мать вместе со Шлойме и Ривкой сумела пробиться в вагон. Спустя полчаса патруль, разыскивавший немецких парашютистов, обнаружил безбилетных пассажиров. Выяснив, что брони у них нет, он высадил «зайцев» на первом же полустанке.
Трехлетняя Ривка сильно ударилась о ступеньку вагона и плакала не переставая. Ножка начала опухать, и мать решила возвратиться домой. Спустя четыре часа они вернулись в город, а еще через шесть в Каунас вошли немецкие танки.
Отца дома не оказалось. Кто-то рассказал, будто его мобилизовали сопровождать партийный архив. Больше Шлойме его не видел. Кроме коротких детских воспоминаний от отца не осталось ничего, совсем ничего.
Несколько недель они просидели запершись, не решаясь выходить на улицу, а когда закончилась еда, перешли в гетто. Было очень холодно, чтобы хоть как-то согреться, разбирали пол и жгли доски в маленькой железной печурке. Постоянно хотелось есть, мать с утра уходила на работу, а вечером, возвращаясь, доставала из складок одежды всего несколько картофелин.
Прошло несколько месяцев или лет – Шлойме плохо ориентировался во времени, каждый день тянулся бесконечно долго, не принося ни радости, ни утешения. Однажды утром по гетто разнесли приказ – всем детям собраться на площади перед юденратом. За невыполнение приказа – смерть.
Мама одела потеплее Шлойме и Ривку и увела на чердак. Там, забившись в темный угол, они просидели до полудня. На чердаке царила студеная тишина, заиндевелые изнанки черепицы искрились в лучах солнца, проникавшего сквозь окошко. Лучи были настолько яркими, что казались нарисованными, словно неведомый художник провел их, не жалея желтой краски.
Иногда с улицы доносился крик или приглушенный расстоянием звук выстрела. Мама еще крепче прижимала к себе Шлойме и Ривку и шептала в маленькие ушки, согревая их дыханием:
– Всё будет хорошо, нас не найдут, всё будет хорошо.
После полудня на лестнице раздались тяжелые шаги. Из щели в полу, прямо перед Шлойме выскочила мышка, как видно, напуганная скрипом лестницы. На Шлойме она не обратила ни малейшего внимания, словно он был уже неодушевленным предметом, наподобие стропил или дымохода.
Поводя глазками, мышка принюхалась, смешно топорща усы, и юркнула обратно в щель.
«Счастливая, – подумал Шлойме, – и я бы хотел стать такой мышкой, спокойно жить под полом, искать крошки, зерна, а при опасности скрываться в первой щели».
На чердак ввалились двое полицаев. Один бегло осмотрел чердак и, ничего не заметив, стал спускаться вниз. Второй задержался, что-то заподозрив, выставил перед собой винтовку со штыком и подошел к углу.
От него пахло водкой и чесноком. Наверное, собираясь на работу, он основательно выпил.
Мама заплакала. Она так кричала, так билась, так умоляла пожалеть детей, что полицай уступил:
– Ладно, – сказал он, отводя штык, – оставь себе одного. Но второго я уведу.
– Нет, нет, – плакала мама, – пожалуйста, нет!
Полицаю надоела возня, он поднял винтовку и направил ее на Ривку.
– Тогда останетесь тут втроем.
Шлойме тогда было десять лет, и он всё понимал. Какая-то сила подняла его на ноги, отцепила от сжавшихся пальцев матери и выбросила на середину чердака.
– Я пойду, – сказал Шлойме. – Не волнуйся, мама, я уже большой.
Полицейский хмыкнул и двинулся следом. Спускаясь по лестнице, Шлойме посмотрел в тот угол, где оставались мать и Ривка. Последний взгляд Ривки до сих пор стоит перед мысленным взором Шлойме, стоит лишь прикрыть веки.
Полицейский вытолкнул Шлойме на площадку и вернулся на чердак. Из-за двери раздались два выстрела, Шлойме завизжал и бросился вверх по лестнице. Второй полицейский схватил его за ногу и выволок на улицу.
Детей собрали на площади и посадили в автобусы. Солдаты с овчарками оттеснили толпу кричащих женщин, и колонна медленно двинулась к воротам гетто. Шлойме показалось, будто он различает голос матери. Он прижался стеклу, пытаясь ее разглядеть, но автобус повернул за угол. Крики отдалились, стали тише, потом еще тише – пока не затихли совсем...
О нескольких годах, проведенных в концлагере Штутгоф, Шлойме старался не вспоминать. Много там было всякого, но какой спрос с ребенка. Ни жене, ни детям своим он никогда ничего не рассказывал. В последнее время ему стало казаться, будто выдавил из себя воспоминания, заполнив опустевшее место отрывками из «Теилим». Увы, он ошибся!
Реб Шлойме стиснул зубы и окунулся три раза подряд. Спрос, возможно, невелик, но что было, то было. После ста двадцати ему наверняка припомнят некоторые случаи лагерной жизни. Правда, он найдет, как ответить судьям, ему есть чем возразить обвинителю. Эту речь он много раз произносил про себя, иногда в микве, иногда в День Искупления.
«Владыка Мира, – шептал реб Шлойме, прикрыв лицо молитвенником. – Ты прав и пути Твои праведны, и законы Твои истинны. Но так тяжело примириться с тем, что справедливость Твоя нам недоступна. Зло торжествует, а грешники благоденствуют. Взрослые, умудренные годами мужи теряют голову, не то что десятилетние мальчишки.
Ты избрал нас как доказательство Твоего присутствия. Всегда, несмотря ни на что. Так я живу. Любой мой поступок – ответ тем, с автоматами в руках. Но иногда, Ты ведь знаешь, не хватает сил. Просто сил, только их, и ничего больше».
Выжил Шлойме чудом, проскользнув мимо смертельных опасностей, словно овечка между семидесяти волков. В последнюю ночь, когда грохот подкатившегося к лагерю фронта напоминал раскаты грома, в барак ворвался пьяный эсэсовец.
– Спите! Германия гибнет, а вы спите! – заорал он и принялся садить по нарам из автомата. Магазин опустел, немец вставил другой и выпустил все пули, все до конца.
Барак молчал. Годы дрессировки приучили живых не шевелиться, а раненых – скрывать боль. Шлойме лежал, словно бревно, пули свистели вокруг него, почти прикасаясь, но мимо, всё-таки мимо. Сверху, прямо на голову, полилась горячая струйка, кровь затекала под робу, щекотала уши, но Шлойме не двигался. Эсэсовец бросил в темноту барака пустой магазин, плюнул и вышел в ночь.
До утра заключенные не вставали с мест, ждали. За стенами потрескивали выстрелы, но внутрь больше никто не зашел. Шлойме совсем застыл, кровь засохла и стянула шею, точно повязка. Лишь только забрезжил рассвет, он тихонько поднялся и выскользнул за дверь, к умывальнику.
В лагере стояла тишина. Проходы между бараками покрывал чистый, выпавший за ночь снег. Неподалеку двери лежал, раскинувшись, мертвый эсэсовец. Снег стоял в его раскрытом рту, словно вата.
С плаца донеслось цоканье копыт. На белой лошади, как Мессия, по плацу ехал русский офицер. Шлойме сразу понял, кто это, возле его хедера в Каунасе была гарнизонная столовая, и русские толпились там целыми днями.
Офицер не заметил Шлойме; судя по всему, он чувствовал себя не очень уверенно и в лагерь забрел по ошибке. Не зная, чем привлечь его внимание, Шлойме стал лихорадочно припоминать обрывки русских фраз, случайно застрявших в его памяти. Вспомнив одну, он сорвал себя шапку и, прижав руки к бокам, словно на построении, выкрикнул изо всех сил:
– Да здравствует Сталин!
Офицер рванул поводья, остановил лошадь и, привстав на стременах, завертел головой в разные стороны, разыскивая кричащего. Шлойме крикнул снова, офицер стегнул лошадь и через секунду оказался возле него.
Спешившись, он несколько минут расспрашивал Шлойме, быстро говоря что-то по-русски, но Шлойме не понимал. Когда офицер замолчал, Шлойме попросил забрать его отсюда домой, в Каунас. Говорил он, разумеется, на идише, но русский его понял.
– Каунас? – переспросил он. – Литва?
– Да, да, – закивал Шлойме. – Каунас, Лита, Лита!
Неподалеку раздалась автоматная очередь, офицер вскочил в седло и пришпорил коня. Свобода, спасение, жизнь, пришедшие так внезапно, натянули поводья и так же внезапно собрались своей дорогой.
Шлойме не заплакал, нет, слезы давно кончились, но, видимо, было в его взгляде нечто, заставившее русского остановить лошадь. Расстегнув подсумок, он вытащил из него сверток и кинул Шлойме.
– Извини, парнишка, но больше ничем не могу. Извини.
Лошадь взяла в карьер, и Мошиах исчез, оставив за собой резкий запах конского пота и сверток из потертой мешковины. Раскрыв его, Шлойме обнаружил краюху хлеба и две банки консервов. В Штутгофе человеческая жизнь стоила меньше, чем содержимое свертка, и Шлойме кинулся прятать. Ковыляя мимо мертвого эсэсовца, он вытащил из-за его пояса нож и, укрывшись за бараком, вскрыл одну из банок. В ней оказалось мясо, и Шлойме съел его на месте, перемежая жадным надкусыванием краюхи. Вторую банку с остатками хлеба он зарыл в снег.
Сытый впервые за последние несколько лет, Шлойме отправился в барак и прилег на нары. Отдых продолжался недолго; желудок, отвыкший от пищи, отказался переваривать съеденное. Задыхаясь и кашляя, Шлойме выскочил наружу и выплеснул на снег заглотанную пищу, всю, до самой последней крупицы.
Это его и спасло. Когда выяснилось, что немцев в лагере больше нет, заключенные принялись искать еду. Вскоре обнаружились две полевые кухни, полные еще теплой каши. Ее хватали руками, набирали в шапки, ели, давясь, и тут же лезли за новой порцией.
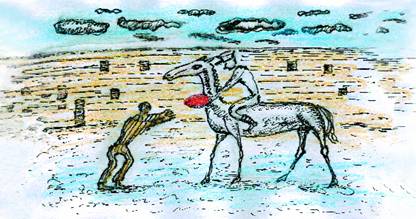
Спустя два часа лагерь был усеян валяющимися на снегу скорченными фигурками в полосатых робах – заворот кишок убивал не хуже эсэсовцев.
Американцы появились только на следующий день, хотя Шлойме ждал русских. Он хорошо помнил красную кавалерию на параде 7 ноября, солдат, таких крепких и уверенных. Они излучали несокрушимую силу, поэтому мать и решила вернуться в Каунас. Потом, много лет спустя, интересуясь историей войны, Шлойме никак не мог понять, почему тысячи хорошо вооруженных и обученных людей, словно овцы, сдавались в плен целыми дивизиями, дрожа от вида немецких танков.
Американцы перевезли уцелевших заключенных в большой госпиталь, начали лечить и подкармливать. Английского Шлойме не знал, но за годы, проведенные в концлагере, научился моментально понимать, чего хочет человек в форме.
В один из дней в столовую вошел американский офицер, встал между столами и закричал во весь голос:
– Шма, Исроэл, Ад-най Элокейну Ад-най эход!
Шлойме не поверил своим ушам. Офицер крикнул еще раз, и Шлойме со всех ног кинулся к нему. Из разных углов зала, опрокидывая скамейки, к офицеру бросились еще несколько ребят. Остальные – русские, чехи и поляки – продолжали сидеть, недоуменно переглядываясь.
Американец обхватил ребят руками и заплакал:
– Киндерлах, вос обн зей гимахт фун аих, киндерлах!*
Офицер оказался раввином американской армии. Он ездил по лагерям и отыскивал уцелевших еврейских детей. Шлойме вместе с другими мальчиками перевезли в специальный госпиталь. Почти сразу к нему подсел человек, назвавшийся представителем еврейского ишува в Эрец Исроэл, и принялся уговаривать ехать с ним. В Каунасе бывших заключенных никто не ждет, да и как попадет в Каунас одинокий мальчик, без документов и денег…
Про Эрец Исроэл Шлойме слышал от отца, учил в хедере, рассматривал картинки в календаре. Представитель ишува говорил на идише, а в конце разговора протянул шоколадку. Шоколад Шлойме не пробовал с начала войны.
– Не торопись, – сказал представитель, – когда надумаешь, скажи коменданту, что хочешь поговорить со мной.
– Я согласен, – сказал Шлойме, не откладывая. – Я поеду с вами.
Оказаться снова одному, в чужом и безжалостном мире, он боялся больше всего на свете.
Загадочная штука Провидение. Сколько лет силится реб Шлойме понять его законы, но каждый раз попадает впросак.
Как превратился он, умирающий от голода мальчишка, без родных и близких, в степенного отца семейства, уважаемого члена общины, хасида, жителя Святой земли? Разгадать такое не по зубам простым евреям, для этого существует Ребе.
Реб Шлойме оглядел собственные пальцы, лежащие на кафельном бордюре миквы.
Вот этими вот самыми руками, с помощью Всевышнего, достиг он благополучия и достатка. Зачем же с Небес подложили ему свинью, о чем хотели сказать, на что намекнуть?
Окунувшись три раза подряд, реб Шлойме отер воду с лица и, снова ухватившись за поручни, тяжело задышал.
Годы, годы дают о себе знать. Раньше он мог просидеть под водой около минуты, мысленно перебирая возможные прегрешения, а сейчас после нескольких секунд начинает звенеть в ушах.
Окутанный клубами пара, словно паровоз, мимо миквы прошествовал старик, окунавшийся в соседнем бассейне. Он был неестественно багрового цвета, даже седые остатки волос на голове и те приобрели рыжий оттенок.
«Жена – вот самое главное испытание в жизни мужчины, – подумал реб Шлойме. – Со стороны кажется, будто она такой же человек, только устроенный немного иначе. Ошибка, большая, большая ошибка! Женщина лишь внешне напоминает мужчину, а на самом деле она совершенно другое существо, думающее по-другому и чувствующее иначе».
Когда Шлойме познакомили с Рахель, она была скромной застенчивой девушкой, не поднимающей глаз и говорившей почти шепотом. Как превратилось ангельское создание в базарную скандалистку, известно только Всевышнему. И хоть утверждает Рахель, будто он, Шлойме, довел ее до такой жизни, нет в этом утверждении ни капли логики. Ведь не совершал он ничего предосудительного, никогда не думал о других женщинах, не заводил друзей для бессмысленных разговоров, не убегал из дому для развлечений. Единственное, на что он отрывал время от семьи – кроме работы, разумеется, – так на молитвы и учение Торы.
Первая их размолвка началась через год после свадьбы. Они гостили у ныне покойных родителей Рахели, в Меа Шеарим. Во время обеда в комнату, где за длинным столом восседала вся семья, ворвался брат тестя.
– Нет, вы только послушайте, что пишут эти злодеи! – закричал он, отирая катившийся из-под штраймла пот. «Этими злодеями» в Меа Шеарим именовали сионистов, ведущих Страну Израиля по пути безнравственности и забвения заповедей. Путь сей заканчивался в бездне ада, и поэтому дядя Рахели, беспокоясь за судьбу еврейского народа, не стеснялся в выражениях. Осыпая проклятиями правительство, президента, кнессет, суд, армию, полицию и продавшийся сионистам раввинат, он пришел в такое возбуждение, что выбежал на улицу и там, размахивая газетой, продолжал честить злодеев.
– Твой дядя настоящий сионист, – сказал Шлойме Рахели.
– Почему? – удивилась она. – Он же их проклинает!
– В России он никогда бы не стал публично проклинать Сталина, в Англии – королеву, а в Америке – президента. Если он не боится так поступать, значит, чувствует себя свободно, то есть – дома. И, следовательно, он – сионист.
Рахель ничего не ответила, но слегка отодвинулась, а ночью, впервые за их совместную жизнь, отвернулась лицом к стене и не отозвалась на ласковые прикосновения руки Шлойме.
С тех пор она принялась постоянно сравнивать всё, что бы ни говорил Шлойме, с порядками, заведенными в доме ее родителей. Ответить ему было нечем: родительский дом в Каунасе Шлойме помнил смутно, а правила, почерпнутые в домах товарищей по ешиве, где он частенько бывал, Рахель отвергала безоговорочно. Ее послушать, то обычаи, принятые в иерусалимской общине «ревнителей», восходили непосредственно к Моше-Рабейну, а желание изменить даже мельчайший штрих являлось бунтом против веры и злокозненным непослушанием.
Устав от споров, Шлойме пришел за советом к Ребе.
– Женщину, ребенка и сексуальное влечение левой рукой отталкивают, а правой притягивают, – сказал Ребе, внимательно выслушав жалобы Шлойме. – Не спорь с женой, если она просит делать «кидуш» сидя, – делай сидя. А к сладкому кугелю можно притерпеться; люди привыкают и к более страшным вещам.
Тут Ребе так взглянул на Шлойме, что ему стало стыдно за свое привередничанье.
– Наверное, ты слишком много сидишь дома, – продолжил Ребе, – крутишься под ногами у жены. Учи больше Тору, постарайся подольше находиться в бейс-мидраше. Чем меньше ты будешь видеть жену, тем лучше станут твои семейные отношения.
Уже в дверях он остановил Шлойме.
– В чем разница между правой рукой и левой? – спросил Ребе.
Шлойме мог привести приблизительно три разных ответа, но на вопросы Ребе не отвечают, а ждут продолжения.
– Правая рука сильнее левой, – медленно произнес Ребе, – потому притягивают всё-таки больше, чем отталкивают. Не переусердствуй.
Возможно, он действительно переусердствовал? А может, Рахель с самого начала не была его истинной парой, оттого все споры и разногласия? А истинная, настоящая пара бродит где-то рядом, по тем же улицам Бней-Брака, не находя, подобно ему, покоя и отдохновения.
Глупости! Целую жизнь они прожили вместе, хуже-лучше, но вместе, и он уже не мыслит себя отдельно, без Рахели.
Но почему он выбрал ее, всё-таки ее из прочих кандидаток? Какое незаметное колесико шевельнулось в механизме Высшей Воли, чтоб повернуть его сердце именно к ней? Предложений хватало, Шлойме был в числе лучших учеников ешивы, и многие отцы хороших девушек хотели видеть его своим зятем.
Нет, на Рахель он остановился не случайно, совсем не случайно.
Реб Шлойме набрал полную грудь воздуха и опустился под воду. Закрыв глаза, он припомнил ту встречу, вторую или третью по счету, после которой он понял, что выбирает Рахель.
Она была не лучше и не хуже других: густая коса, переброшенная на грудь, просторная блузка, скрывающая фигуру, юбка до щиколоток, осторожный, осматривающий взгляд. Ни красавица, ни уродка; миловидная, как все девушки в девятнадцать лет.
В тот вечер было ненастно, порыв ветра едва не сорвал со Шлойме шляпу, он еле успел подхватить ее, резко подняв руку. От быстрого движения рукав пиджака соскользнул, обнажив лагерный номер.
– Ты был там? – спросила Рахель.
– Да.
– Расскажи.
К своему собственному удивлению, Шлойме начал рассказывать. Рахель осторожно уточняла подробности, выспрашивала про семью, родственников.
От семьи Шлойме никого не осталось; письма, отправленные в Каунас, вернулись, по указанному адресу проживали совсем другие люди. Шлойме обратился в советское посольство, и спустя несколько месяцев получил вежливый ответ.
«К сожалению, – писал консул, – большая часть еврейского населения Каунаса уничтожена немецко-фашистскими оккупантами. По сведениям паспортного стола города Каунаса, лица с указанной фамилией в настоящее время в городе не значатся».
– Назови имена всех погибших родственников, – попросила Рахель в конце рассказа.
– Соня – моя мама, – начал Шлойме, – Ривка – сестра, Довид – отец, Зелик, сын дяди Хаима…
Он повторял их имена, словно выученное в детстве, а потом забытое стихотворение. Каждое имя тянуло за собой образ, иногда полустертый, а иногда яркий, точно запечатленный несколько часов назад.
– Шестнадцать, – подвела итог Рахель. Она протянула ладонь, словно хотела прикоснуться к тому месту на руке Шлойме, где был вытатуирован лагерный номер. Жест, немыслимый для воспитанной ортодоксальной девушки; такое прикосновение возможно только после свадьбы. Словно прочитав мысли Шлойме, Рахель испуганно отдернула руку.
– Знаешь, – она взглянула Шлойме прямо в глаза, – давай родим шестнадцать детей и назовем этими именами.
Возвращаясь в Бней-Брак, Шлойме еще и еще раз вспоминал слова Рахель и ее взгляд. Автобус не успел добраться до конечной остановки, а он уже окончательно решил.
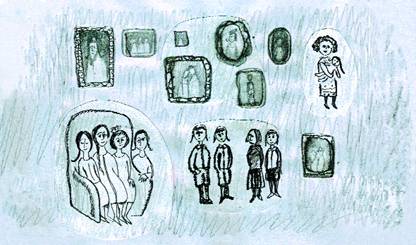
Как задумали, так и получилось. Шестнадцать детей подняла Рахель, ни одного не отдала болезням. Поначалу Шлойме много помогал ей, но постепенно она захватила все позиции в доме, и его помощь больше мешала ей, чем помогала. У скромницы Рахели потихоньку прорезался командирский тон и скандальные нотки: попробуй-ка справься с такой бандой проказливых детей, бешеных от жары и фруктов. Нет, реб Шлойме всё понимал и не жаловался, да и на что жаловаться, ведь такое счастье – шестнадцать здоровых, умных детей – не каждому выпадает.
По милости Всевышнего мальчики и девочки родились в точном соответствии с погибшими родственниками Шлойме, один в один, словно чья-то рука направляла таинственный процесс зачатия.
Реб Шлойме много читал, интересуясь механизмами работы Провидения, и законы, постепенно всплывающие из книг и рассказов стариков, наполняли его душу трепетом. Мир был построен разумно и справедливо, всё в нем гармонично соответствовало одно другому, и не было в его устройстве пробелов или ошибок.
Одно только плохо вписывалось в эту удивительную гармонию – личная судьба самого реб Шлойме. На отвлеченных примерах, взятых из святых книг, он понимал справедливость действия законов и признавал их мудрость, но когда мысль возвращалась к чердаку в Каунасе, чувство перехлестывало доводы разума.
С этим вопросом он пришел к Ребе, чудом спасенному хасидами из дрожащего под немецкими бомбежками Белостока. Ребе внимательно выслушал Шлойме, прикрыв глаза, словно от яркого света. Его семью и почти всех учеников развеяли по полям ветры, проносившиеся над трубами крематориев. То, о чем спрашивал Шлойме, было для Ребе частью личной судьбы.
– Послушай, мальчик, – сказал он, выслушав Шлойме до конца. – Я расскажу тебе одну историю. Она произошла в прошлом веке, в небольшом польском местечке.
В одной из хороших семей этого местечка старший сын отошел от веры наших отцов и выучился на врача. Всевышний подарил ему хорошую голову и чуткие руки, и лекарь из него удался славный. Он получил право на проживание в Варшаве, разбогател и со временем превратился в лощеного завсегдатая варшавских салонов. Узнать в нем выходца из местечка было невозможно.
Сменив веру, врач тем не менее не стал настоящим христианином, а справлял обряды только для виду. В глубине его сердца сохранилась небольшая точка, наполненная теплым чувством к своему народу.
Каждое лето врач ездил отдыхать на немецкие курорты и в одной из поездок вдруг вспомнил местечко, семью, родственников и решил навестить их. Врач сошел с поезда на ближайшей станции, нанял карету и отправился на свидание с детством.
В местечке ничего не изменилось: те же низкие домики, длинные бороды стариков, пестрые платки женщин, ватаги мальчишек с пейсиками вразлет. Звучание родной речи приятно удивило врача, он уже много лет не разговаривал на идише, и, как выяснилось, этот язык по-прежнему ласкал его слух.
Потрясенные родственники не могли поверить, будто бритый господин во фраке и есть юноша, исчезнувший много лет назад. Разговоры и расспросы могли продолжаться до самого утра, но наступила суббота, и мужчины собрались в синагогу.
Врач пошел с ними. Время многое смыло из его памяти, он с трудом понимал, о чем идет речь, и рассматривал происходящее с интересом туриста.
Служба ему понравилась, ведь в синагоге царил строгий порядок. У восточной стены сидели раввин и почтенные члены общины, за ними члены попроще, дальше бедняки, а задние ряды занимали нищие и дети. Женщины сидели вообще отдельно, на втором этаже. Все одновременно вставали, одновременно кланялись, одновременно провозглашали «Омейн» на благословения кантора.
Вернувшись из синагоги, семья уселась за большой стол, уставленный яствами, и начался пир. После ужина расспросы продолжились, и спать врач отправился около полуночи.
На следующее утро он с удовольствием пролежал бы в постели часов до десяти, но уже в семь его разбудил стук в дверь. Пора было отправляться на молитву.
Проклиная свое любопытство, врач нехотя оделся и последовал за родственниками. На сей раз литургия ему понравилась меньше, особенно чтение Торы.
В начале, предполагал врач, пригласят раввина, потом старосту синагоги, за ним стариков, почтенных граждан и так далее. Но вместо этого первым вызывали какого-то оборванца, за ним безусого юношу, потом мальчишку, затем снова юношу, а про раввина вообще забыли.
После молитвы врач отозвал в сторону старосту и вежливо попросил разрешения сказать несколько слов.
– Послушайте, – сказал врач, стараясь сдержать покровительственные нотки бывалого жителя столицы. – Всё у вас красиво и ладно, но с чтением Торы есть непорядок. Вы, наверное, давно варитесь в собственном соку и перестали обращать внимание на вещи, хорошо видные со стороны.
Староста внимательно выслушал соображения врача, но вместо благодарности еле сдержал улыбку.
– Нет, это вы послушайте, – сказал он врачу, начинающему терять самообладание. – Если бы вы приходили к нам чаще и спрашивали больше, то знали, что первым к Торе вызывают коэна, а вторым леви. Коэн у нас в синагоге только один, тот самый оборванец, леви тоже один, у мальчика была бар-мицва, у четвертого годовщина смерти матери, у пятого – день рождения, шестого и седьмого в этом году к Торе еще не приглашали, пришла их очередь, а раввина вызывали в прошлую субботу.
– Так и человек, – завершил Ребе свой рассказ. – Приходит в мир на короткий срок, не зная того, что было до него, ни тем более того, что случится после. Мириады связей окутывают любую судьбу, влияют на каждый поступок, воздействуют на будущее. Но человек, в беспредельной самоуверенности своей, хочет и требует, чтоб справедливость, причем так, как он ее понимает, восторжествовала немедленно, прямо у него на глазах.
Иди, мой мальчик, учись и думай. Пусть люди рассказывают не о знамениях, которыми удостоил тебя Всевышний, а о чудесах, которые ты совершил для Него.
И Шлойме ушел. Много листов Талмуда прошелестело с тех пор, выросли дети, родились внуки, и с годами реб Шлойме пришел к некоему решению. На первый взгляд оно казалось довольно простым, однако принять его сердцем и сделать линией поведения оказалось совсем не легким делом.
«Не по своей воле я пришел в этот мир, – думал реб Шлойме, – и не по своей уйду. Не я воздвиг горы, населил континенты, завязал и переплел мириады ниточек, связывающих события и судьбы. И не мне страдать от непонимания вселенских процессов. Нужно просто жить, выполнять заповеди и не обижать других людей. А остальное пусть решает Тот, Кто отвечает за судьбы мира.
Позиция устоялась и стала частью внутреннего баланса. Жизнь спокойно катилась к старости, мелкие неприятности не могли задержать ее уверенный накат. И тут эта свинья, и не когда-нибудь, а в Грозные дни раскаяния. Неспроста явилась к нему эта женщина, ох неспроста.
Окончание следует
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru
* Дети, что они с вами сделали, дети! (идиш)