[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2008 АДАР 5768 – 3(191)
Матвей Каган – еврейский философ
Философия и религия на фоне первой мировой войны
Леонид Кацис
Продолжение. Начало в № 2, 2008
В 1918 году Матвей Каган, находившийся в Германии в качестве перемещенного лица, написал некролог своему учителю – Герману Когену. В этом тексте нашло отражение и еврейское измерение в отношениях между учителем и его учеником.
Большую часть своей жизни первый еврей – профессор философии немецкого университета, не принявший крещения, провел в многолетних исследованиях и переосмыслении творчества Платона и Канта. Именно эти работы создали ему славу основателя нового философского направления – так называемого неокантианства. Хотя, разумеется, всю свою жизнь Герман Коген так или иначе высказывался о еврейской и иудейской проблематике и публично выступал в защиту иудаизма, подвергавшегося атакам со стороны идеологов немецкого антисемитизма. Размышления о роли еврейской традиции в формировании этической основы человеческого общества занимали Когена долгие годы и в конце жизни философа вылились в написание в начале 1910-х годов важнейших для еврейской мысли ХХ века работ «Религия разума из источников иудейства» (опубликована в 1919 году) и «О ближнем» (1914).
С этим связано и то значение, которое имело творчество Г. Когена для его учеников-евреев, в частности, из Восточной Европы. Причем необходимо отметить, что М. Каган учился у Когена как раз в последние годы жизни философа, когда еврейский элемент его творчества прямо и открыто выступил на первый план. М. Каган никогда не забывал – и не только в некрологе своему учителю, что очевидно, но и в своих собственных работах – о месте иудаизма в философском познании мира. Более того, именно ученики Когена последних лет его жизни создали ушедшее на десятилетия в историческое небытие направление мысли, которое мы рискнули бы назвать русско-еврейским неокантианством. В отличие от немецко-еврейских учеников Когена, они развивали в своем философском творчестве эсхатологические идеи Владимира Соловьева, вели споры с участниками русского религиозно-философского ренессанса, которые пытались создать новую русскую религиозную философию. При этом базой рассуждений русско-еврейских неокантианцев, и Кагана в том числе, было именно иудейское понимание и библейских текстов, и веры вообще, и, естественно, единого Б-га. При этом нельзя не помнить, что для многих российских евреев кумиром тогда был не столько Рамбам, сколько вольнодумец Барух Спиноза. Это, естественно, повлияло и на мысль самого Когена.
В некрологе М. Каган писал о неприятии Когеном пантеизма Спинозы так: «Понятие бытия шире понятия природы. Имеется проблема единичности бытия, а не только единства бытия природы и других родов бытия. Эта проблема одного единственного бытия составляет содержание монотеизма и его религиозное преимущество перед всяким другим религиозным пониманием. Бытие религии объективно и не сравнимо ни с каким другим бытием. Здесь кроется содержание объективной идеи единого Б-га <…> Проблема религии в идее близости человека к Б-гу, а не в идее абсолютного объединения с Б-гом, исчерпывания и имения Б-га в себе. Молитва, лирическое обращение к Б-гу – проблема религии»[1].
Усвоенная еще в невельском детстве естественная и традиционная иудейская картина мира наложилась в творчестве М. Кагана на философскую школу Г. Когена. Именно это наложение и обеспечило своеобразие его мышления.

Г. Коген.
Сразу по выходе «Религии разума из источников иудейства» М. Каган законспектировал эту работу. Почти тогда же, в 1922 году, М. Каган переводит «Социальный идеализм» другого столпа марбургской философии – Пауля Наторпа, и это при том, что отношение к религии у этого философа было куда более скептическим, чем у Когена. Однако у Наторпа, пережившего, в отличие от Когена, первую мировую войну на несколько лет, наиболее активно развилась проблематика «кризиса культуры», как тогда называли тотальный мировоззренческий кризис, уничтоживший идеалы европейской культуры XIX века, основанной на христианско-эллинском синтезе. Рассуждая об отношении Наторпа к этому кризису, М. Каган писал: «Все же глубже всех, ставящих вопрос, я считаю марбургского философа Пауля Наторпа <…> Наторп ищет и находит связь для постановки и попытки разрешения этой проблемы главным образом с Платоном и Песталоцци. Но ориентируется он на будущее. Для Шпенглера (автора знаменитой книги “Закат Европы”. – Л. К.) прошлое – дорогое кладбище с милыми покойниками, а настоящее – обречено на смерть. И ничуть здесь не меняется дело по существу оттого, что Шпенглер во втором томе “Заката Европы” прорицает будущую жизнь на тысячелетие Достоевскому. Все равно – по Шпенглеру – умрет и он. Чудно только то, как это в самом Шпенглере живет и “мертвая античность”, и мертвая “арабско-христианская”, и мертвая “фаустовская” культура плюс еще и неживое “христианство Достоевского”, делая его, собственно, живым покойником»[2].
Этот сложный философский текст полон забавной иронии. Так, давно умерший к моменту «кризиса культуры» Достоевский в «Закате Европы» оказывается чуть ли ни героем собственного «Бобка», где, напомним, покойники на питерском кладбище беседуют, лежа в своих гробах. А мировая культура лишена, как видим, иудаизма. Поэтому неудивительно, что и наторповскую идею создания некоей «Школы единства, труда и человека с Центральным советом духовной работы» М. Каган называет утопией, а кризис на первый взгляд парадоксально определяет так: «Кризис современной культуры не есть кризис идеи бесконечности, фаустовской идеи Шпенглера, а кризис из-за отсутствия достаточного действия и сознания идеи бесконечности. Нынешний кризис есть кризис конечности, а не бесконечности».
Не знай мы, что в архиве философа сохранилась работа 1923 года «Еврейство в кризисе культуры», мы могли бы решить, что он в своем сочинении о Наторпе пустится в общефилософские рассуждения о конечности и бесконечности. Однако эта забытая работа, опубликованная впервые лишь в 1988 году[3] и поэтому выпавшая из логической последовательности развития еврейской мысли, позволяет нам различить за критическими замечаниями в адрес Наторпа признание Каганом особой роли еврейского элемента в практическом разрешении кризиса культуры XIX–ХХ веков. Впрочем, этот вопрос мы обсудим отдельно.
В написанной по-немецки и тогда же, в 1915 году, опубликованной работе «Опыт систематической оценки религиозности во время войны»[4] М. Каган сформулировал несколько важных принципов своего подхода к проблеме соотношения мировой войны и веры.
Набожность во время войны – это исторический факт, некоторое событие <...> Этот факт мы извлекли из нераздельной жизни культурной истории <...>. Сама по себе религия может иметь значение факта, как и всякое другое явление в истории; так же, как война. Война может оказаться помехой в системе истории, а религия – устранением этой помехи. В исторической взаимосвязи помехи и ее устранения, возможно, удастся фундировать и обосновать единство некоего нового явления – набожности во время войны – в системе исторической цели. Перекрещивание этих двух рядов, религии и войны, должно оказаться в системе необходимым. Поэтому здесь нужно говорить о необходимо обоснованной религии, которая должна быть, в связи с войной – не только войной 1914–1916 (так! – Л. К.) годов, но войной вообще, – которая с точки зрения систематических оснований долженствования в истории, безусловно, является неизбежной[5].
На первый взгляд такой подход к войне никак не связан с проблемой религиозности во время войны. Однако чуть ранее Каган определяет войну как факт, который оказывается на границе логики. А там, где человеческая логика оказывается бессильной, и есть место Всевышнего. Тогда процесс становления новой послевоенной истории обретет и цель, и смысл в рамках соответствующих религиозных и, разумеется, нравственных (этических) представлений о будущем (в христианском смысле постапокалипсических, а в еврейском постмашихианских времен).
Каган продолжает: «Менее всего мы хотим прокламировать и обосновывать “святую войну” или “святость войны”. В систематической реальной взаимосвязи объяснению подлежат только две точки в системе рядов: война в негативном ряду как повод к духовному подъему в направлении бесконечно далекой точки религии. Религия, а вовсе не война необходимым образом должна быть обоснована как справедливая. Мы должны попытаться обосновать проблему набожности во время войны только как подъем, говоря математическим языком, от – до + »[6].
В своем стремлении научно-философского обоснования религии философ предлагает достаточно рискованное объяснение места и роли Б-га в системе мироздания, однако подобный подход был достаточно распространен в то время: «Б-г существует не для небес и не для того, чтобы сохраняться в качестве субстанции, а для человеческой, материальной истории и человеческой культуры. В этом отношении Б-г не создал человека, а является коррелятом человечества в истории. Здесь речь идет не о субстанциональном существовании Б-га, а Б-ге как принципе»[7].

Военные на молитве в городской синагоге. Вена, 1915 год.
В этом смысле человек не столько рассуждает о существовании Всевышнего вообще, ибо эта субстанция в ее целостности для человека недоступна, сколько о том месте, которое Б-г занимает в самопознании и самосознании человечества. Человек может только верить в Б-га, а не обсуждать «научно» факт Его существования. При этом Б-г в сознании человека (и только в нем) может существовать, только если человек Его осознает и верит в Б-га. Однако любая вера человека так или иначе относится к культурной истории, и в этом смысле она является частью беспрерывного процесса познания Творца: «Культурную историю как таковую не следует рассматривать как данность, она всегда остается нерешенной задачей. “Нерешенной” надо понимать не так, что задача представляет собою нечто напрасное, а так, что она всегда ставится в процессе познания, никогда не завершимого. Она достижима, но никогда не достигается»[8].
Эта талмудически-каббалистическая логика – в которой постоянное самокомментирование мыслителя сопровождается ощущением, что никакой двекут (т. е. молитвенное слияние с Б-гом) не может привести к окончательной идентификации молящегося или просто глубоко верующего с Б-жеством, – и есть внутренний механизм действительно еврейской философии Кагана. Ведь тип философии и даже, как ни странно это для кого-то прозвучит, ее национальной само- или просто идентификации определяется не общими и лишенными национальной принадлежности методами мышления Homo sapiens, а структурой рассуждения и ценностными ориентациями философа.
Отсюда и оценка ситуации войны и даже еще не произошедшей в России 1916 года революции: «Революция сама по себе – не этическое событие, и война не этическое событие; они не дают никакой уверенности в улучшении прежнего права и являются примерами отсутствия долженствования в имманентности (внутреннеприсущести. – Л. К.) долженствования в имманентном непосредственном осуществлении. Должна быть уверенность в имманентности долженствования, если это последнее не желает прекратиться. Имманентность права в социальной истории выдвигает в качестве требования долженствования требование завершения посредством другой имманентности – гуманности (Humanitat). Эта имманентность имеет своим принципом религию»[9]. Действительно, человек, человечество (социум) и правила взаимоотношения между людьми (право) должны гарантировать сохранение жизни и человека, и человечества, а это, в свою очередь, обеспечивает корреляцию (т. е. связь или взаимозависимость) между Б-гом и человеком в человеческой, а не чисто Б-жественной истории. Следовательно, самоуничтожение человечества в войне приведет к прекращению связи между Б-гом и несуществующим уже человеком. А Всевышний может создать себе, естественно, новый «коррелят» в виде нового человечества. Отсюда и уверенность в том, что война или революция, выйдя за пределы человеческой логики, должны привести в итоге к улучшению, а не к ухудшению жизни человечества. И гарантией самосохранения человечества оказывается тогда именно религия. Ибо более неоткуда получить сведения о творении человека или об упомянутой Каганом корреляции Б-га и человека.
Из этих рассуждений вытекает образ того идеального государства, к которому должна привести мировая война и, соответственно, усиление религиозности в этот период: «Идея абсолютно совершенного государства человечества, государства гуманности, переносится с имманентности социального в истории в имманентность религии – на трансцендентное царство Б-жие. Трансцендентным царство Б-жие является потому, что в своей полноте и завершенности оно никогда не может быть достигнуто наверняка. Никакую действительность невозможно приписать царству Б-жию научно обоснованным образом, потому что действительность может быть необходимой только как возможность познания. Трансцендентность царства Б-жия и “конец дней” идеального государства пророков означают именно это и ничего больше. Единство долженствования в единственности имеет ручательство единства трансцендентального принципа Б-га. Единственность и есть единство принципа “царство, которое не от мира сего”»[10].
Однако заметим, что сама идея единого принципа, сочетающего в себе мудрость (или философию, основанную на пророках Танаха), научность (т. е. познание, включающее в себя и «научное» обоснование Б-га) и веру в непостижимого до конца единого Творца, вполне может быть описана как сочетание трех последних и высших Сфирот, которые человеку пройти не дано. Недостижимый Эйн Соф для человека всегда окажется недоступным.
На философском языке это и мудрос
ть как вариант опыта или интуиции, и научность как вариант гносеологии вкупе с эпистемологией, и вера как источник первых двух. Здесь, по-видимому, и находится центр будущего философствования Матвея Кагана, который в нашем тексте находится в сжатом виде.
Более того, идея некоего «идеального государства пророков», которые, как известно, этой проблемой не озаботились, заставляет продумать природу этого государства. И здесь, как представляется, прав профессор А. Ковельман, который, обсуждая это место у М. Кагана, увидел в «государстве пророков» скрытое указание на заключительные фрагменты книги пророка Йехезкеля, который описал в своем видении новое распределение наделов в Земле Израиля после возвращения народа из плена в Бавеле (Вавилоне; Йехезкель, 40–48). В центре этих рассуждений пророка, разумеется, восстановленный Храм, службу в котором он подробно описывает. Причем, что важно для обсуждения Матвеем Каганом идей Германа Когена, в центре этой службы именно жертвоприношение коэнов, совершаемое теми, кто, в отличие от левитов, не осквернился жертвами другим богам.
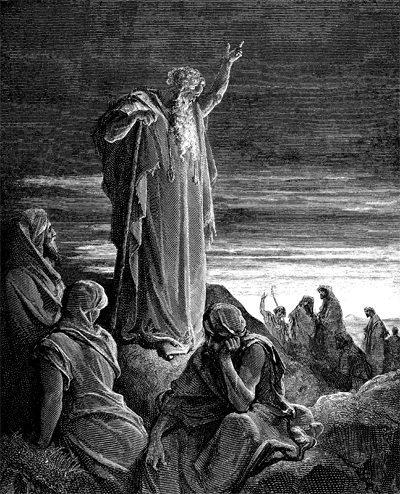
Пророк Йехезкель. Густав Доре.
Следовательно, и Г. Коген, и его ученик М. Каган, в других местах прямо ссылающийся на учителя, приобретают в рамках такого философского подхода особое право на возвещение своему народу уже в ХХ веке такой религиозно-нравственной философии, которая именно в иудаизме находит основы современной морали.
Иначе и быть не может, ведь возвращение евреев в свое государство учением Г. Когена предусматривается только в форме бесконечного движения к нравственному совершенству, результатом чего и могут быть исполненные пророчества. На фоне идей политического сионизма, мечтающего о построении реального, а не идеального (в смысле Когена-Кагана) еврейского государства, высоконравственное государство пророков воистину окажется идеальным.
И основывается эта точка зрения на прямой цитате из Йехезкеля, которую, как и пассаж о коэнах, Матвей Каган не приводит. Вот она: «Приближая порог свой к порогу Моему и дверной косяк свой к косяку (двери) Моей, – и только одна стена между Мной и ими; и оскверняли они имя святое Мое мерзостями своими, которые творили они, и истребил Я их гневом Моим. Ныне удалят они от Меня блуд свой и трупы царей своих; и буду обитать среди них вовеки. Ты сын человеческий, возвести дому Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих; и измерят они план. И если устыдятся они всего того, что делали, объяви им форму дома, и устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его…» (Йехезкель, 43:8–10).
Если помнить о приведенных здесь словах пророка, то станет ясна строгая логическая последовательность суждений Кагана, которые к ним подводят: «Религия, вера и Б-г – методически научные принципы этики, которая является не только критикой социальной истории, но и наукой о социальном. Социальному долженствованию в его методической идейной направленности подлежит не только регулирование людей всего человечества в их пространственном взаимоотношении, но – через это последнее в его методическом значении – и вся культура и история, а не только социальная история в более тесном смысле. Наука, искусство и культура вообще могут только в лучшем случае продолжать совершенствование. Однако идея совершенного как достигнутого должна как таковая оставаться безусловным этическим требованием»[11].
Действительно, если представить себе, что Храм уже восстановлен, то и новые Законы Торы должны быть даны Машиахом, который откроется миру. Если же этого не произошло, то духовная составляющая территориального разделения Земли Израиля, с выделением места для Храма, может оставаться только идеальной моделью идеального общества, стремление к которому и есть стремление к идеальному государству пророков.
Поэтому общий вывод Кагана таков: «Поскольку всякий этический вопрос возникает и может быть задачей только в жизни мира и в жизни культуры, то он должен ставиться и решаться в самой жизни»[12].
Казалось бы, из этого вывода следует возможность эффектного перехода к так называемым общечеловеческим ценностям, где уже нет принципиальной разницы между авраамическими религиями. Однако Каган, как нетрудно было понять из всего предыдущего изложения, философ еврейский, а следовательно, и система его религиозных ценностей – иудейская. Другое дело, что он не говорит этого прямо. Достаточно лишь некоторых апофатических примеров в его последующем рассуждении, чтобы понять – не названное прямо христианство этического вопроса в его предельной постановке не решает: «Религия, понятая как бегство от жизни и уход от мира, отрицая жизнь и мир, может перед лицом этих этических проблем – проблем социальной жизни и для социальной истории – дать только камни вместо хлеба. Отрицание мира и жизни остается самонадеянностью, которая способна внести путаницу и в науку, и в религию.
В этом смысле панрелигиозность – вырождение религии»[13].

Журнал «Новая Палестина». Март, 1920 год.
Действительно, если считать, что Мессия еще не приходил на землю, то религия остается важнейшим потенциальным источником этики его ожидания и созидания жизни до его прихода. Если же все хотя бы один раз уже было, то надо, отвлекшись от Торы, перейти к вере уже не столько в Б-га, сколько в реальность бывшего на земле Мессии. Это, собственно говоря, и есть подтверждение существования Всевышнего и правоты Его обетований. Однако такая религия, как известно, ведет и к отказу от мира, и к отрицанию грешного мира. Между тем Всевышний существует вовсе не для доказательства человечеству Своего существования. Он есть тот Абсолют, который позволяет еврейской мысли отказаться от предельного логического формализма в поисках абсолютных феноменальных оснований человеческой мысли.
Поэтому и заключительный вывод Матвея Кагана обоснован только в рамках еврейской философии и иудейской мысли. Той самой философии, которая прилагает общечеловеческие способы мышления и выражения к познанию мира в его иудейском, а не каком-либо ином варианте.
«Нужно сказать со всею ясностью и резкостью: религия значима только в методическом обосновании этики и наук в культуре. Но методически она должна быть значимой, потому что без религии в этике возник бы пробел. Религия сама – вовсе не пробел, как не может быть сам по себе пробелом всякий научный принцип, без которого в науке может возникнуть пробел. Религия имеет значение этико-теологического, то есть методического, принципа», – говорит в заключении своего трактата Матвей Каган, ссылаясь на главу Кантовой «Критики способности суждения “О моральном доказательстве существования Б-га”»[14].
Казалось бы, круг рассуждений Кагана в рамках его еврейской системы ценностей замкнулся. Однако, как мы помним, разговор обо всем этом шел во время первой мировой войны, ставшей кризисным и переломным моментом и в еврейской, и в мировой истории. Поэтому и рассуждения об этом времени, когда оказались нарушены все привычные логические обоснования, Каган продолжил в тексте, так и названном: «Еврейство в кризисе культуры». Без понимания этого кризиса и места в нем еврейства принципиально непонятна философия истории Матвея Кагана.
Однако это уже совсем другой разговор. Разговор, в котором примут участие и евреи, и русские, и христиане, и иудеи. И мы к нему обратимся в будущем.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.