[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2008 ИЯР 5768 – 5(193)
БЕДНЫЙ ЛЕН
Из воспоминаний о В.Б. Шкловском
Бенедикт Сарнов
Начать эти воспоминания мне хочется строчками Бориса Слуцкого:
Умирают мои старики,
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Борис Слуцкий:
«Умирают мои старики…»
Виктор Борисович Шкловский был одним из главных моих богов и, пожалуй, главным моим учителем. Сам он об этом, может быть, и не догадывался. О том, как и почему я выбрал себе в учителя именно его, я еще, может быть, когда-нибудь расскажу. А начну – с другого, более позднего воспоминания.
– Я за вас не боюсь, – сказал он мне однажды. – Время, конечно, плохое... Что говорить, скверное время. Но ведь все времена плохие. Для литературы не бывает хороших времен. Назовите мне хоть одного писателя, который жил в хорошее время... А-а, не можете?.. Вот то-то и оно!
Я и в то время был уже большим спорщиком. Но с Виктором Борисовичем в споры, как правило, не вступал: слушал его, разинув рот, чуть не каждое его слово принимая как откровение. Но тут вдруг завелся. Стал чуть ли не орать, что нет! Неправда! Того, что сейчас творится с литературой у нас, не было никогда! Ни в одну эпоху! Никогда литератору, особенно молодому, начинающему, входящему в литературу, не было так плохо, как у нас!
Я даже рассказал подходящий к случаю анекдот.
В бане моются два еврея. Один начинает стонать:
– Ой, мне плохо!
Второй откликается:
– Э... Кому теперь хорошо!
– Мне плохо! Мне плохо! – все отчаяннее твердит первый.
Голос его становится все слабее и наконец смолкает.
Слегка обеспокоенный, первый подходит к нему и видит, что тот отдал Б-гу душу.
– Ах, вам так плохо? – обескураженно говорит он. – А я думал, что вам так плохо.
Разницу между первым и вторым «так» можно было передать только интонацией, что я и сделал. И заключил:
– Понимаете, Виктор Борисович, разницу?
– Ваши жалобы, – ответил Шкловский со своей неповторимой «улыбкой Будды», – напоминают рассуждения девицы, которая боится выходить замуж: «Вам небось хорошо, маменька! Вас-то выдали за папеньку! А мне за чужого мужика идти!»
– Да нет же! – орал я. – Поймите! Тут совсем другое... Вам тоже было плохо, я знаю. Но вам дали родиться! Вы успели стать Шкловским! А нам не дают даже вылупиться из яйца!
Вряд ли я тогда смог его переубедить. Ведь эта его реплика про девицу, завидующую маменьке, что она вышла не за чужого мужика, а за папеньку, была не случайной обмолвкой и не остротой, родившейся в полемическом запале.
Это была концепция.
Он искренне полагал, что для писателя не бывает плохих и хороших времен. Писателю всегда плохо. Больше того: ему должно быть плохо.
Сравнивая (еще в 20-х годах, в своей книге «Третья фабрика») писателя со льном на стлище, он имел в виду именно это:
Лен, если бы он имел голос,
кричал при обработке. Его дергают из земли, взяв за голову. С корнем. Сеют его
густо, чтобы угнетал себя и рос чахлым и не ветвистым.
Лен нуждается в угнетении.
Его дергают. Стелют на полях (в одних местах) или мочат в ямах и речках.
Речки, в которых моют лен, –
проклятые – в них нет уже рыбы. Потом лен мнут и треплют...
Бедный лен.
И чтобы никто не сомневался, что именно он имеет в виду, так прямо там и написал, что угнетение идет литературе на пользу. Для того чтобы талант писателя по-настоящему раскрылся и окреп, его надо «мять и трепать».
Это свое рассуждение про «бедный лен» он тогда закончил так:
Из жизни Пушкина только пуля
Дантеса не была нужна поэту. Но страх и угнетение нужны.
Когда я спорил с Виктором Борисовичем, доказывая, что мне и моим сверстникам не в пример хуже, чем было ему, – я имел в виду главным образом то, что нам не дают (не позволяют) выражать свои мысли (вернее, мысли, казавшиеся нам своими) – своими словами.
Делая самые первые свои шаги в литературе, я страдал только от того, что редакторы терзают, калечат, уродуют, нивелируют, приводят к общему знаменателю мой стиль. (Правильнее, конечно, было бы сказать, – то, что я считал своим стилем.)
Споря с Виктором Борисовичем и тупо повторяя, что ему дали родиться, а мне (нам) не дают, я имел в виду прежде всего и главным образом то, что он успел утвердить свое право быть Шкловским (с этими своими причудливыми ассоциациями, с этими своими короткими фразами, каждая из которых начиналась с красной строки, с абзаца) именно вот в этой сфере чистого стиля.
Смешно, не правда ли?
Но, если вдуматься, так ли уж это смешно? Даже наивная реплика Сельвинского, над которой я в свое время глумился («Вы сформулируйте вашу мысль, товарищ Сталин, а я выражу ее своими словами»), в сущности, не так смешна, как трагична.
Несчастный литератор пытается отстоять, не сдать свой последний плацдарм. Сохранить свое право оставаться собой если не на глобальном, мировоззренческом (где уж там!), так хотя бы на клеточном, на молекулярном уровне.
Вообще-то, есть, наверно, некий глубокий смысл в том, что посягательство на этот молекулярный, клеточный уровень для художника даже больнее, мучительнее, чем стремление власти взять под контроль его мировоззрение (идеологию). И власть проявила просто поразительное понимание существа дела, не оставив советским писателям и этот их, последний плацдарм. (Это было, конечно, не понимание, а инстинкт. Бешеный инстинкт власти, такой же мощный, как инстинкт самосохранения или инстинкт продолжения рода.)
К этой теме я, наверно, еще не раз буду возвращаться. А сейчас – назад, к тому моему разговору со Шкловским, в котором он сравнил меня с девицей, которую, в отличие от «маменьки», выдают замуж не за «папеньку», а «за чужого мужика».

В.Б. Шкловский:
«Для литературы не бывает хороших времен»
Разговор этот имел продолжение. И не одно.
Кажется, в тот же вечер (а может быть, в другой, сейчас уже не вспомню) Виктор Борисович спросил меня, что я пишу или собираюсь написать. Я сказал, что главный редактор «Дня поэзии» (это был Смеляков) предложил мне написать о ком хочу. Дал мне, так сказать, карт бланш. Я сказал ему, что хочу написать об Ахматовой. (Тогда после долгого перерыва вышла ее маленькая зелененькая книжка, которую она называла «лягушкой».) Ярослав Васильевич на это мое предложение отреагировал без энтузиазма. Хмуро буркнул:
– Ну, пишите.
Когда я рассказал об этом Виктору Борисовичу, он вздохнул:
– Ведь не напечатают.
Я согласился, что да, конечно, скорее всего не напечатают. А когда он сказал в ответ, что не понимает, зачем тратить время и силы на заведомо обреченное предприятие, стал доказывать, что наше дело – барахтаться, пытаться сделать все, что в наших силах, не думая о том, каков будет результат.
Спокойно выслушав эти мои доводы (сейчас я изложил их значительно короче, чем в том своем монологе), он сказал – все с той же, хорошо мне знакомой, ласковой и печальной «улыбкой Будды»:
– Понимаете... Когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости.
Это была все та же концепция. И родилась (сложилась) она у него, конечно, не от хорошей жизни.
* * *
Примерно в то же время, о котором я сейчас вспоминаю, году этак что-нибудь в 1960-м или 1961-м, случилось мне быть свидетелем такого эпизода.
Дело было на каком-то вечере поэзии – одном из тех многолюдных сборищ, где выступали совсем молодые тогда Евтушенко и Вознесенский и куда многочисленным их поклонникам приходилось прорываться сквозь кордоны и оцепления конной милиции.
Если память мне не изменяет, в тот раз это происходило в Политехническом.
Уж не знаю, как и почему, на сцене, за столом президиума вместе с выступавшими на том вечере поэтами оказался Виктор Борисович.
Громовым своим «голосом Дантона» (так писали о нем во время его поездки по Франции французские газеты: «Человек с голосом Дантона») он проорал в зал несколько не очень понятных собравшимся фраз и прочел какое-то – сейчас уже мне не вспомнить, какое именно, – стихотворение Мандельштама.
Ему довольно прохладно похлопали: все жаждали выступлений своих кумиров, и Шкловский (да, пожалуй, и Мандельштам тоже) в той аудитории мало кого интересовал. Но вслед за ним к микрофону вышла юная, прелестная Белла Ахмадулина. Промяукав что-то высокопарное и тоже не слишком понятное, она вдруг обернулась к президиуму и, обращаясь прямо к Виктору Борисовичу, с пафосом произнесла:
– Я еще не родилась, а вы – вы все! – уже предали друг друга!
Пафос этого ее разоблачения был, конечно, нацелен во всех «отцов», во всех писателей и поэтов старшего поколения, которых за тем столом тоже сидело немало. Но прозвучало это так, как будто имела она в виду именно Шкловского. Прежде всего и главным образом – его одного.
И так оно, наверно, и было.
Что-то такое она про него, наверно, слышала.
Я думаю, что слышала она про то, как он «предал Зощенко». Про это тогда было много охотников рассказывать.
Слышал про это тогда и я.
Рассказывали, что, прочитав повесть Зощенко «Перед восходом солнца», Шкловский был от нее в восторге. Будто бы даже прямо так и сказал автору: «Миша, ты гений!» А когда повесть сверху было приказано «расклевать» (подлинное выражение Жданова), присоединился к дружному хору его гонителей.
Сейчас я про ту давнюю историю знаю гораздо больше, чем знал тогда. Пожалуй, даже больше, чем мог бы мне тогда рассказать о ней сам Виктор Борисович.
В вышедшем несколько лет тому назад (в 1999 году) томе документов «Власть и художественная интеллигенция» был опубликован «Протокол беседы М.М. Зощенко с сотрудником ленинградского управления НКГБ СССР». Беседа, как явствует из этого протокола, происходила 20 июля 1944 года.

Белла Ахмадулина:
«Я еще не родилась, а вы все уже предали друг друга!»
В этой «беседе» Михаил Михайлович жаловался расспрашивавшему (лучше, наверно, сказать, допрашивавшему) его энкавэдэшнику на «двурушничество» своих собратьев по перу, которые ему повесть хвалили, а на заседании Президиума Правления Союза писателей, где ее приказано было ругать, – камня на камне от нее не оставили. Называл он при этом Николая Семеновича Тихонова. Упомянул и Шкловского, о котором высказался так:
В частности, могу назвать
Шкловского – Булгарина нашей литературы – до «разгрома» повести он ее хвалил, а
потом на заседании Президиума Союза ругал. Я его обличил во лжи, тут же на
заседании.
Казалось бы, яснее не скажешь.
Но сказано это было все-таки в особых обстоятельствах и, как выразился однажды (в одном своем рассказе) по сходному поводу сам Михаил Михайлович Зощенко, – «в минуту сильного душевного волнения».
А совсем недавно (в 2002 году, в сборнике «Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга третья») была опубликована каким-то чудом сохранившаяся записка М.М. Зощенко Виктору Борисовичу, написанная на том самом заседании Президиума и, судя по всему, под прямым и непосредственным впечатлением от той самой «предательской» его речи.
Вот она:
Витя, ты сказал так сильно и
едко, что только очень тупые люди могли не услышать. А я после тебя не могу
говорить – я почти равнодушен к тому, что тебя тревожит. Я не верю, что
искусство сейчас возможно. Даже в малой степени. И что говорить – слова
повиснут в воздухе. Как, в сущности, повисли и твои великолепные слова. От
этого погода не изменится. Даже если б мы с тобой тут плакали.
Твой несчастный Зощенко.
В газетном отчете о том заседании Президиума было сказано, что в прениях по докладу Фадеева выступили Л.С. Соболев, который назвал повесть Зощенко «антихудожественной», П.Ф. Юдин, сказавший о ней, что «книга вредная», так как сеет «душевную расслабленность». Ольгу Форш, которая неосторожно сравнила повесть Зощенко с «Исповедью» Руссо, тут же поправил Маршак, сказавший, что у Зощенко нет «живого чувства», которое есть у Жан-Жака.
О Шкловском в отчете сказано только, что он тоже выступил в прениях.
Если б он впрямую лягнул Зощенко, автор отчета, надо думать, какое-нибудь его высказывание процитировал бы.
Судя по этому газетному умолчанию и обращенной к нему записке Зощенко, Виктор Борисович под «автобус», конечно, не кидался, но и участвовать в общем хоре хулителей гонимого писателя не стал: ушел в какие-то общие рассуждения об искусстве, которые бедному Зощенко были уже «до лампочки». Но, судя по первой фразе записки («Витя, ты сказал так сильно и едко, что только очень тупые люди могли не услышать»), эти его «общие» рассуждения по тем временам тоже были не вполне безобидны. Говорил, наверно, что вообще с искусством у нас дело обстоит плохо.
Но что-то, наверно, все-таки сказанул и такое, что потом, задним числом, Михаил Михайлович мог расценить и как «двурушничество» – особенно в сравнении с теми восторгами, которые Виктор Борисович вылил на него сразу по прочтении повести. (Как сказано у того же Зощенко в одном его рассказе, «ведь он же не знал, что будет землетрясение».)
Я с Виктором Борисовичем на эту тему заговаривать, естественно, никогда не решался: мне даже в голову не приходило спросить у него, как это было на самом деле. В предательство его, по правде сказать, поверил. Но осуждать Виктора Борисовича, а тем более судить его был не больно склонен. Во-первых, потому что его любил, а во-вторых, потому что гораздо лучше, чем Белла, понимал, какое тогда было время. Разница в возрасте все-таки.
* * *
Был такой литературный критик – Владимир Барлас. По профессии он был, если не ошибаюсь, геолог. Но, влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей.
Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.
– Да, мне тоже уже пора, – сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы.
Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего «Аэропорта» до «Маяковской», продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор.
Выйдя из метро, я спросил:
– А вы куда?
Спросил в том смысле, что, если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре.
Барлас ответил:
– Я – в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие.
Ответ этот меня изумил. Среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей, был похож на человека, которого можно было бы заманить «под своды таких богаделен».
– Вы в самом деле ходите на эти занятия? – не удержался я.
Он сухо ответил:
– Хожу.
– Зачем? – спросил я, искренне желая понять эту загадку. Черт его знает! Может, там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и мало привлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда.
Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.
– Бенедикт Михайлович, – тихо сказал он. – Сколько вам было лет в тридцать седьмом году?
Я сказал:
– Десять.
– А мне – двадцать...
Дело было вечером, спорить было нечего.
Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я – по своим делам, уж не помню сейчас куда. А он – в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения.
* * *
Между Беллой и мной разница в возрасте была такая же, как между мной и Барласом.
Она в тридцать седьмом родилась. А я к тому времени уже целых десять лет жил на свете. Немного, конечно. Но я дышал тем воздухом и, как ни был мал, кое-что о том времени знал не понаслышке.
Немудрено, что к «предательству» Виктора Борисовича я относился гораздо терпимее, чем она.
...Написал я сейчас эту фразу и вдруг сообразил, что тот грубый выпад юной Беллы против Шкловского, скорее всего, был вызван не тем, давним, о котором она, быть может, знать не знала и ведать не ведала, а совсем другим, гораздо более свежим его грехопадением.
Осенью 1958 года, когда разразилось «землетрясение», вызванное присуждением Нобелевской премии Борису Пастернаку, Виктор Борисович был в Ялте.
Услыхав по радио радостную весть (это было еще «до землетрясения», до самого первого его толчка), он и живший в том же ялтинском Доме творчества Илья Сельвинский решили поздравить товарища, удостоившегося самой высокой, какая только есть в мире, литературной награды.
У Шкловского с Пастернаком отношения были давние, еще с ранних футуристических, а потом и лефовских времен. А Сельвинский числил Бориса Леонидовича в ряду главных своих поэтических кумиров. В написанном во время войны стихотворном своем признании в любви к России так прямо и написал:
Люблю великий русский стих,
Еще не понятый, однако,
И всех учителей своих –
От Пушкина до Пастернака.
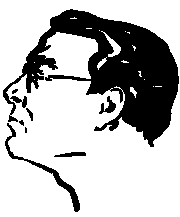
И.Л. Сельвинский:
«Вы сформулируйте вашу мысль, товарищ Сталин, а я выражу ее своими словами»
Поделившись друг с другом радостной вестью, они вдвоем отправились на почту и отбили Борису Леонидовичу телеграмму, в которой от души поздравляли его с заслуженной высокой наградой.
А наутро разразилось «землетрясение».
Пришли газеты, из которых они узнали, что литературная общественность, а с нею и весь советский народ гневно осуждают отщепенца, продавшего свое перо империалистам.
Выяснилось, таким образом, что вся рота шагает в ногу, и только один прапорщик (в данном случае – два прапорщика) шагают не в ногу.
Допущенную роковую ошибку надо было срочно исправлять.
А как?
Шкловский и Сельвинский не придумали ничего лучшего, как побежать в местную, ялтинскую «Курортную газету» и опубликовать там «Письмо в редакцию», в котором спешно присоединяли свои голоса к голосам товарищей, дружно клеймящих предателя, пробравшегося в их стройные ряды.
Участие Виктора Борисовича в той развязанной начальством идеологической кампании как будто тем и ограничилось. Чего нельзя сказать о втором участнике этой постыдной эскапады. Вернувшись из Ялты в Москву, он продолжал клеймить Пастернака – то в прозе, то в стихах. И даже когда кампания давно уже пошла на убыль, опубликовал в «Огоньке» обращенное к Борису Леонидовичу стихотворение, начинавшееся строкой: «А вы, поэт, ласкаемый врагом!..»
Этот его подвиг был отмечен блистательной эпиграммой, истинной жемчужиной тогдашнего нашего «интеллигентского фольклора».
Тексту ее предшествовали два эпиграфа:
...всех учителей моих –
От Пушкина до Пастернака!
(Из старых стихов И. С.)
Человечье упустил я счастье:
Не забил ни одного гвоздя.
(Из новых стихов И. С.)
А сама эпиграмма звучала так:
Всё позади – и слава, и опала,
Остались зависть и тупая злость...
Когда толпа учителя распяла,
Пришли и Вы – забить свой первый гвоздь.

М.М. Зощенко:
«Я не верю, что искусство сейчас возможно»
Назвав этот текст произведением «интеллигентского фольклора», я слегка погрешил против истины. Фольклором ведь мы именуем обычно произведения, автор которых остался неизвестным. Что же касается автора этого маленького шедевра, то им был человек хорошо мне известный – добрый мой приятель Миша (Михаил Львович) Левин. К стыду моих коллег, не литератор, а ученый, физик.
Вернусь, однако, к Виктору Борисовичу.
Его участие в антипастернаковской кампании, как я уже сказал, ограничилось только тем постыдным письмом в редакцию «Курортной газеты». Да и было оно, в сущности, вынужденным. (Так, во всяком случае, ему это представлялось: «Когда мы уступаем дорогу автобусу...») Но даже и это, не самое активное соучастие во всенародной травле несчастного поэта наверняка время от времени томило его угрызениями совести.
Как-то во время одной из наших вечерних дачных посиделок зашла у нас – сейчас уж не помню, в какой связи, – речь о Пастернаке.
И Виктор Борисович вдруг задумчиво сказал:
– Да, с Борей мы поступили нехорошо. Неправильно.
– Виктор Борисович! Почему вы говорите «мы»? – удивилась моя жена.
Это ее удивление было искренним, я бы даже сказал – простодушным: про тот его ялтинский подвиг она ничего не знала.
Поскольку она нечаянно, сама о том не подозревая, наступила ему на «любимую мозоль», я сразу понял, что эта невольно допущенная ею неловкость даром нам не пройдет.
Но реакция Виктора Борисовича оказалась совершенно непредсказуемой.
– Я никогда не был внутренним эмигрантом! – вдруг заревел он своим «голосом Дантона».
Ничего не понимающая моя жена испуганно молчала. Испуганно молчала и Сима (Серафима Густавовна). Она была бледна и, как мне показалось, была напугана этим внезапным взрывом даже больше, чем непосредственная его виновница: наверно, лучше, чем мы с женой, знала, каков ее Витя в гневе, и боялась, как бы этот его гнев не обрушился и на нее.
Я тоже на некоторое время лишился дара речи. Но, улучив момент, все-таки прорвался сквозь Дантонов рев Виктора Борисовича первой пришедшей мне на ум умиротворяющей фразой:
– Успокойтесь, Виктор Борисович, – сказал я. – Мы знаем, что вы никогда не были внутренним эмигрантом. Вы были внешним.
Эта незатейливая шутка неожиданно его отрезвила: что-что, а юмор он чувствовал хорошо.
В общем, он постепенно остыл, и вечер закончился вполне мирно.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.