[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ДЕКАБРЬ 2010 ХЕШВАН 5771 – 12(224)
О потомках российского «чайного короля» и еврейских деньгах
Документальное повествование
Владимир Хазан
Окончание. Начало в № 10, 11, 2010

Марина Цветаева в Париже.
1926 год
2. «Люблю богатых!..»
(Ответ Марине Цветаевой?)
В израильском архиве П. М. Рутенберга обнаружился листок с отпечатанным на машинке стихотворным текстом, который, без сомнения, представляет собой ответ на известные стихи Марины Цветаевой «Хвала богатым» (1922). Вот этот текст:
Не по вкусу мне и по нраву
Разбираться в делах приватных
И оспаривать чье-то право
Саркастически петь богатых.
Невысокая это участь,
Незавидное испытанье –
Разбиваясь душой и мучась,
Для «греха» искать оправданье.
Это, в общем, смешно и скучно…
Но, взнесенный талантом смелым,
Голосисто, светло и звучно
В небе плавает лебедь белый.
Неколеблем треножник прочный.
Зная правых и виноватых,
Без оттенков, легко и сочно
Нарисован портрет богатых:
С музой творческою недружен,
В дорогие меха наряжен,
Мир искусства ему не нужен
И голодный певец не важен.
А с высот голубых, безгрешных,
Удивляется Б-г стокрылый
Бездуховности их кромешной
И бескрылости их унылой.
Но напрасны, увы! – старанья
Разграфить эту жизнь, – хоть тресни!
Духа творческого дыханье
И богатым тоже известно.
Упоенье идеей пылкой,
Упоенье борьбой мятежной!..
И не он ли разбил копилки
На свободную жизнь в надежде?!
Не потупив свой взор упругий
И презрев свой венец терновый,
Чтоб живот положить за други,
Он остался в аду суровом.
И Писанья слова вовечно
Никакими незаменимы:
Не судите других беспечно,
И не будете вы судимы.
Напомню – для сравнения – цветаевский «источник»:
И засим, упредив заране,
Что меж мной и тобою – мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире:
Под колесами всех излишеств:
Стол уродов, калек, горбатых…
И засим, с колокольной крыши
Объявляю: люблю богатых!
За их корень, гнилой и шаткий,
С колыбели растящий рану,
За растерянную повадку
Из кармана и вновь к карману.
За тишайшую просьбу уст их,
Исполняемую как окрик.
И за то, что их в рай не впустят,
И за то, что в глаза не смотрят.
За их тайны – всегда с нарочным!
За их страсти – всегда с рассыльным!
За навязанные им ночи,
(И целуют и пьют насильно!)
И за то, что в учетах, в скуках,
В позолотах, в зевотах, в ватах,
Вот меня, наглеца, не купят –
Подтверждаю: люблю богатых!
А еще, несмотря на бритость,
Сытость, питость (моргну – и трачу!)
За какую-то – вдруг – побитость,
За какой-то их взгляд собачий
Сомневающийся…
– не стержень
ли к нулям? Не шалят ли гири?
И за то, что меж всех отверженств
Нет – такого сиротства в мире!
Есть такая дурная басня:
Как верблюды в иглу пролезли.
…За их взгляд, изумленный насмерть,
Извиняющийся в болезни,
Как в банкротстве… «Ссудил бы… Рад бы –
Да»…
За тихое, с уст зажатых:
«По каратам считал, я – брат был»…
Присягаю: люблю богатых!
Об обстоятельствах написания этого стихотворения известно из рассказа М. Слонима, который пишет, что, живя в Праге, М<арина> И<вановна> в 1923–1925 годах часто заходила в редакцию <журнала «Воля России»> и познакомилась там с Лазаревым. Она ему понравилась, и он сказал ей в своей обычной манере, полушутя, полусерьeзно: «“Недаром о белых сочиняете, небось генеральская дочь”. – “Да, – ответила Марина, – но генерал до 12 лет без сапог ходил, как и вы в детстве, Егор Егорович”. В дальнейшем разговоре кто-то упомянул об одной пражской эмигрантке, сорившей деньгами, чудившей, не знавшей, что с собой делать. Мы молчали. “Люблю богатых, – вдруг сказала М<арина> И<вановна>, беря новую папиросу, – мне их жалко”. А через несколько дней прислала мне свою пародийно-саркастическую “Хвалу богатым”»[1].

Портрет Михаила Цетлина работы художницы Александры Прегель, падчерицы поэта
Нет вроде бы необходимости доказывать, что «Не по вкусу мне и по нраву» представляет прямой выпад в адрес цветаевских стихов, – это демонстрируют многочисленные и бесспорные контроверзы. Не говоря уже о прямых – без обиняков – рефлексиях типа первой строфы: «Не по вкусу мне и по нраву / <…> / оспаривать чье-то право / Саркастически петь богатых», отметим попытку ассоциативно-парафрастически, через парящего в небе лебедя, передать ощущение цветаевской поэзии, мобилизуя для этой цели глубоко внедренный в сознание эмиграции образ лебединого стана (так, напомню, называлась неизданная, но широко известная книга стихов поэтессы о Белой гвардии). Анонимный оппонент Цветаевой, безусловно, намеренно имитирует ритмический пульс ее стихов и финиширует евангельской заповедью («Не судите, да не судимы будете», Матф., 7:1) – в тон и в пику ее строчкам: «Есть такая дурная басня: Как верблюды в иглу пролезли», намекающим на слова Христа: «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Матф., 19:24). Ответ – не знаю уж, вольно или невольно – приведен в количественное единообразие с оспариваемым текстом: в нем столько же стихов – 10 строф, 40 строчек, – что и у Цветаевой.

Абрам Гоц
Кто написал этот текст – неизвестно. Хозяин архива инженер Рутенберг хотя и дружил со знаменитыми русскими писателями – М. Горьким, Л. Андреевым, О. Дымовым – и близко знал А. Толстого (добавим к этому кругу менее громкие имена русских литераторов: В. Жаботинского, Б. Савинкова, А. Дикгофа-Деренталя, С. Мстиславского и др.), хотя и вел дневник, местами отличавшийся вполне литературным и более того – пронзительным лирическим слогом, но стихами, насколько мне известно, не баловался. В свой палестинский период, достигнув в 1920–1930-х годах «степеней известных» – став главой электрической компании и президентом ишува (еврейской общины Эрец-Исраэль), Рутенберг превратился в человека состоятельного настолько, что поддерживал газету А. Ф. Керенского «Дни», издававшуюся в Париже, давал деньги многим русским эмигрантам, рассеянным в Европе и Америке, даже имел свой личный самолет. Но вряд ли бы он стал опровергать ходячее мнение – тем более в стихах! – о богатстве как моральной ущербности. Это был явно не его стиль.
Упоминаемый в приведенном выше рассказе М. Слонима старый народоволец и эсер-ветеран Е. Е. Лазарев, который близко знал Рутенберга и состоял в переписке с ним[2], никакого, конечно, отношения ни к тематике, ни к пафосу «ответа Цветаевой» не имел, да и иметь не мог. Здесь, понятное дело, нужна была фигура не просто знакомая со стихами, но и как-то «уязвленная» ими, причем «уязвленная» до того, чтобы ввязаться в полемику.
Некоторую смысловую неясность, наводящую на раздумья, заключает предпоследнее четверостишье «ответа»:
Не потупив свой взор упругий
И презрев свой венец терновый,
Чтоб живот положить за други,
Он остался в аду суровом.
Внутри библейской риторики о презревшем опасность Христе, положившем «живот за други своя» – принесшем себя на жертвенник спасения людей, могут скрываться и иные импликации. Например, черты вполне исторического сюжета об Абраме Гоце, отказавшемся от идеи спасительного бегства в эмиграцию, оставшемся в «аду суровом» и подвергшемся сталинским репрессиям. Именно так мог трансформироваться библейский миф в сознании Михаила Цетлина, писавшего стихи под псевдонимом Амари, который испытывал к Цветаевой в разные периоды весьма амбивалентные чувства. В письме к М. Волошину от 4 февраля 1917 года он отзывался о поэтессе весьма недоброжелательно (впрочем, в том же ряду у него оказывались и Есенин, и Мандельштам):
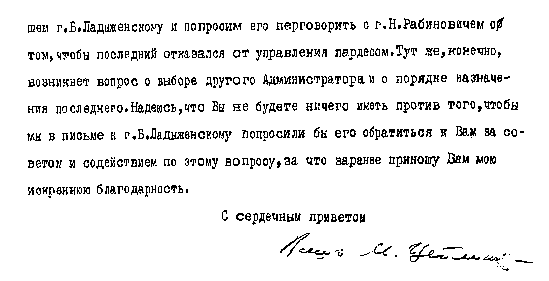
Фрагмент письма Михаила Цетлина
Пинхасу Рутенбергу. Лондон, от 29 ноября 1937 года
Я еще не получил стихов М. Цветаевой и С. Есенина. Жду их с трепетом, ибо успел разочароваться в обоих. То, что печатала М. Цветаева, мне мало нравится, длинно, приблизительно, внешне импровизация «con brio»[3]. И у Есенина чересчур много общего с его сотоварищами Клычковым и прочими «рыбками». Никак не могу себя заставить полюбить Мандельштама, для меня загадка твоя и других людей, мнение которых ценю, любовь к его стихам. Из «тяжести недоброй» он еще не создал «прекрасного», да и тяжести в смысле настоящей вескости в нем мало. Есть ум и еще больше умничанья. М. б., я в своем мненьи раскаюсь, но… это мое мненье и я его разделяю. Больше, чем М. Цветаеву, хотелось бы мне издать Ахматову, М. Шагинян – из женщин[4].
Но главное, М. Цетлин, как ближайший родственник и друг, взял на себя в 1930-х годах обязательство следить за тем, чтобы наследственные права Абрама Гоца остались неприкосновенными. С этим связаны два его письма Рутенбергу, сохранившиеся в архиве последнего. С ними, как мне кажется, и связано тайной связью приведенное стихотворение. В книге о Рутенберге, наряду с другими коммуникациями моего героя, показавшимися мне не до конца ясными и расшифрованными, я полностью обошел его довольно обильную переписку с Цетлиным. Сейчас имеется прямой повод познакомить читателей с текстом этих самых двух писем, в которых говорится о наследии Абрама Гоца в Палестине[5].
23/26 St. Dunstands Hill
London
29 ноября 1937
Дорогой Петр Моисеевич,
«Пардес»
Хочу Вам сообщить, что 24 с<его> м<есяца> мы внесли в Англо-Палестинский Банк, Лондон, 1200 ф<унтов> ст<ерлингов> и просили, чтобы они телеграфно поручили своему Банку в Тель-Авиве выкупить закладную Бидермана на 1000 ф<ранков> и перевести эту закладную на имя Англо-Азиатик Ко., Лтд.
Вопрос, поднятый Вами об устранении г. Рабиновича (и его зятя) от управления пардесом[6], оказался более сложным, чем мы предполагали. Р<абинович> был назначен администратором пардеса не опекунами, а судом (за отсутствующего А. Гоца), а потому и устранить его без его добровольного согласия будет, вероятно, очень трудно и хлопотливо. Ввиду этого мы и решили прежде всего избавиться от угрозы продажи пардеса с аукциона и перевести закладную Бидермана на имя Англо-Азиатики, если не номинально, то фактически, а именно, чтобы номинально и вторая закладная была на имя Англо-Палестинского Банка. Чтобы провести все это, возможно, придется прибегнуть к содействию г. Р<абинови>ча. Прилагаю при сем копию нашего письма к Англо-Палестинскому Банку для более подробного освещения вышеизложенного.
После перехода закладной Бидермана к Англо-Азиатику мы напишем г. Б. Ладыженскому и попросим его переговорить с г. Рабиновичем о том, чтобы последний отказался от управления пардесом. Тут же, конечно, возникнет вопрос о выборе другого администратора и о порядке назначения последнего. Надеюсь, что Вы не будете ничего иметь против того, чтобы мы в письме к г. Б. Ладыженскому попросили бы его обратиться к Вам за советом и содействием по этому вопросу, за что заранее приношу Вам мою искреннюю благодарность.
С сердечным приветом,
Ваш М. Цетлин

Комната Пинхаса Рутенберга в Хайфе
Через некоторое время Цетлин обращается к Рутенбергу еще раз по тому же вопросу:
23/26 St. Dunstands Hill
London
4 февраля 1938
Дорогой Петр Моисеевич,
в свое время я писал Вам о положении пардеса Абрама Рафаиловича. Знаю, что Вы продолжали интересоваться этим делом и посылали за справками к Б. Д. Ладыженскому. Положение таково, что мы решили отправить в Палестину нашего доверенного – Бориса Борисовича Вольфсона, чтобы выяснить все обстоятельства на месте и постараться уладить. Он сам расскажет Вам обо всем, поэтому я не буду писать Вам подробно. Перед нами 2 задачи: устранение г. Рабиновича и дальнейшая судьба пардеса и его управления. К тому же присоединяется вопрос расчета с Anglo-Palestine Bank.
Борис Борисович заслуживает во всех отношениях самого полного доверия. Он бывший с<оциал> д<емократ>, человек очень высоких моральных качеств, очень дельный и энергичный.
Шлю Вам сердечный привет,
Ваш М. Цетлин
Попытки установить, что случилось в дальнейшем с наследственными землями Гоца, пока ни к чему не привели. Работа в израильских архивах ответа на этот вопрос не дала. В известных цетлинских бумагах нужной информации тоже обнаружить не удалось. Не стоит забывать, что спустя без малого два с половиной года после последнего письма, незадолго до нацистского вторжения, семья Цетлиных покинула Париж и отправилась в свою очередную эмиграцию – на сей раз в США, откуда Михаил Осипович в Европу уже не вернулся. Рутенберга не стало в самом начале 1942 года.
Однако касательно того, кто мог быть автором приведенного «ответа Цветаевой», некоторые соображения все же имеются. Полагаю, что именно личность и деятельность Цетлина отвечают необходимым для этого условиям и заключают все «улики», которые могут быть сведены воедино: богатство и одновременно чувство того, что его не стоит стыдиться («Духа творческого дыханье / И богатым тоже известно» звучит едва ли не как защита и оправдание собственного духовного и интеллектуального пути); способность выразить свою «обиду» и несогласие в стихах; представление об авторе-визави как о большом поэте («…взнесенный талантом смелым, / Голосисто, светло и звучно / В небе плавает лебедь белый») и абсолютная собственная поэтическая непретенциозность – в противном случае, полагаю, стихи давно стали бы достоянием общественности.
По всей видимости, решающим импульсом для их написания явилась судьба Абрама Гоца, напоминанием о которой послужили письма Рутенберга Цетлину, где шел разговор о наследственных правах презревшего «свой венец терновый». Поскольку письма эти не сохранились, трудно сказать, проговаривалась ли в них мысль о сложившейся причудливой ситуации: гонимый и отверженный, в полном смысле – пария, Гоц вместе с тем не в фантазиях преследователей и палачей, а на деле имел прямую связь с «загнивающим миром капитала» и сам выступал в качестве «скрытого империалиста». Впрочем, столь понимающим людям, как Рутенберг и Цетлин, не нужно было обговаривать вещи, разумеющиеся сами собой. Исторический абсурд выглядел столь явным, что не видеть и не чувствовать его было невозможно.
Но к размышлению (или к проявлению поэтических эмоций) подводило не только это. Дело не сводилось к единичной судьбе конкретного человека, какой бы трагичной сама по себе она ни была. Хотя помимо приведенных гипотетических замечаний, нет никаких иных доказательств реального цетлинского авторства приведенного «ответа», его возможный, потенциальный характер представляется вполне допустимым. В этом смысле Цетлин-Амари опирался на духовную историю своей фамилии-рода, в которой проблемы собственно финансовые, торговые, промышленные были неотделимы от культурных, просветительских, образовательных, художественных. А те и другие, в свою очередь, сплетались с незыблемыми ценностями еврейской традиционной морали, по которой щедрость и альтруизм почитались столь же высоко, как идеи равенства и свободы. В этой перспективе строчки о «разбитых копилках на свободную жизнь в надежде» из «ответа Цветаевой» – неважно, относились ли они непосредственно к Гоцу или нет, – резонировали с реальными политическими событиями, в которые оказалось вовлечено третье поколение дома Высоцких. В этом смысле «ответ» звучал как рефлексивная защита своих – персональных, семейных, поколенческих, национальных, наконец, – приоритетов и идеалов, которые были далеки одновременно и от универсальных стереотипов, и от однозначных и зачастую несправедливых приговоров истории. Доверить эту мысль автор мог далеко не всем, а только тому, чей жизненный путь и опыт в каком-то смысле корреспондировал с его собственным, – столь же, как он, богатому и не только не стыдившемуся этого, но и одержимому «идеей пылкой» и «борьбой мятежной». На мой взгляд, это и объясняет, как и почему цетлинские стихи оказались в архиве Рутенберга.

Пинхас Рутенберг (слева) и крупный еврейский предприниматель Михаил Поляк.
Эрец-Исраэль. Середина 1930-х годов
И последнее. Когда-то А. Горнфельд (под псевдонимом Борис Огрон) в статье, замечательно богатой примерами печатного невежества советских журналистов 20-х годов, привел выражение «Деньги не имеют запаха» с приписанным ему неожиданным авторством: «Из завещания Горация Соломона Ротшильда». В непринужденном и не лишенном изящного остроумия комментарии к этой нелепой выдумке А. Горнфельд писал:
Автор, конечно, сочинил своего Ротшильда, но напрасно он прикрыл никогда не существовавшим Горацием Соломоном подлинного автора изречения, который тоже имеет право на историческое внимание. Ибо пустил его в ход насильник почище всех Ротшильдов: римский император Веспасиан, который в своем государственном грабительстве дошел до того, что установил налог на отхожие места (они назывались потом во Франции vespasiennes).
И далее автор приводил красочный рассказ Светония и Диона Кассия о том, что, когда наследник Веспасиана Тит воспротивился столь гнусной форме государственной экономики, «отец ткнул ему под нос первые полученные от сортирного сбора деньги и спросил: “Воняют?”» – на что спасовавшему перед столь неотразимым аргументом сыну ничего не оставалось, как пролепетать: «Нет». «А ведь они из мочи», – энергично завершил этот спор отец. «Так или иначе, – заключает А. Горнфельд (Б. Огрон), – “pecunia non olet” (“деньги не пахнут”) можно считать пословицей, которую приводить позволительно, не приписывая кому-либо»[7].
Горнфельд, разумеется, заметил («Автор, конечно, сочинил своего Ротшильда»), но не стал развивать любопытную аберрацию своего незадачливого оппонента: Горация Соломона Ротшильда воистину никогда на свете не существовало. Этот призрак богача, естественно, еврея, контаминирован из имен разных людей, предположим, из барона Горация Гинцбурга и Соломона (Шломо) Майера Ротшильда, одного из сыновей основателя банкирского дома Ротшильдов Майера Аншела. И не просто контаминирован, но возведен в ранг символа, своего рода эмблемы еврейского «золотого тельца», вызывающего разные чувства – от злобы и зависти до ядовитого сарказма и иронии.
Цетлин (если автором стихов был он) писал не о Ротшильде, не о «еврейском Крезе», критически воспринимаемом извне, а о еврейском богаче, воспринимаемом изнутри, о себе самом. И этот исповедальный опыт представителя класса «сытых», – возможно, не претендующий стать литературным портретом, но интересный как с психологической точки зрения, так и тем, что облечен в поэтическое слово, – без сомнения, достоин всяческого внимания.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
[1] Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Советский писатель, 1992. С. 315. Отмечу некоторое хронологическое несовпадение: М. Слоним говорит о 1923–1925 гг., а под текстом стихотворения стоит дата 30 сентября 1922 г.
[2] Два письма Лазарева Рутенбергу, относящиеся к 1930-м гг., см. в моей кн.: Пинхас Рутенберг: От террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал историю. В 2-х томах. Т. 2. Иерусалим–М.: Гешарим – Мосты культуры, 2008. С. 645– 651.
[3] С жаром (ит.).
[4] Цит. по: Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуты (1915–1918) / Публ., подгот. текста, вступит. заметка, закл. и прим. Б. Фрезинского и Д. Зубарева // Звезда. 1996. № 2. С. 189.
[5] Оба написаны на почтовой бумаге «The Anglo-Asiatic Company Limited».
[6] Цитрусовая плантация. Как говорилось выше, Абраму Гоцу принадлежало несколько цитрусовых плантаций в Палестине.
[7] Огрон Борис <А. Горнфельд>. Беспризорные цитаты // Звезда. 1929. № 5. С. 173.