[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2012 АДАР 5772 – 3(239)
Сочинение о пользе снобизма
Мордехай Рихлер
Всадник с улицы Сент-Урбан
Пер.
с англ. В. Бошняка
М.: Книжники; Текст, 2012. — 832 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)

Из всего множества ранее неизвестных русскому читателю зарубежных (хотел написать «западных», но усомнился, Запад ли Канада) прозаиков, переведенных в последнее время, Мордехай Рихлер едва ли не самый значительный и уж точно один из самых обаятельных, человечных, если угодно. Правда, аннотация, уверяющая, что его романы «пользуются успехом и в России», несколько преувеличивает, как это свойственно аннотациям. Той известности, которой Рихлер заслуживает, он — пока, по крайней мере, — не снискал, оставаясь, прошу прощения за банальность, широко известным в узком кругу. Даже недавняя — прекрасная — экранизация его позднего шедевра «Версия Барни» с Дастином Хоффманом и Полом Джиаматти (см.: Лехаим. 2012. № 1) прошла у нас как-то на удивление незаметно и не станет, по всей видимости, локомотивом для книг Рихлера.
Вот и очередной его переведенный роман (написанный в 1971 году) особого шума покамест не вызвал и вряд ли вызовет — рецензентами не обласкан, читатели за ним в очереди не выстраиваются. А зря: это очень хорошая книга. И очень рихлеровская. Тот фирменный коктейль из цинизма и чувств добрых, которым очаровывает «Версия Барни», во «Всаднике» наличествует в полной мере. Налицо и прочие узнаваемые черты: среда (еврейский Монреаль, богемный Лондон), проблематика, сатирические приемы, расстановка персонажей. Даже главный герой, Джейк Херш, уже появлялся в романе 1959 года «Годы учения Дадди Кравица». Правда, тогда он был еще монреальским школьником. Теперь он лондонский режиссер и счастливый семьянин (красавица жена, трое детей). Но смутное чувство беспокойства и неудовлетворенности заставляет его связаться с откровенным проходимцем Гарри Штейном (коллизия, по сути повторяющая роман «Кто твой враг»). Заканчивается эта история трагикомическим фарсом: Джейк и Гарри по вине последнего попадают под суд, Херш оказывается на грани бесчестья (применительно к Штейну говорить о чести не приходится) и едва выпутывается.
Едва ли не основная прелесть романа в том, что невозможно однозначно ответить на вопрос, из-за чего, собственно, томится герой и зачем ему сдался Штейн — беспримесный гаденыш, на счет которого Джейк не питает никаких иллюзий. Кризис среднего возраста? Леволиберальные комплексы? Чувство вины за то, что просидел военные годы в тихой Канаде, пока Штейн уворачивался от немецких бомб в Лондоне? Сочувствие мужа красавицы к ничтожному плюгавцу? Стыд, вызванный ощущением никчемности поколения, не попавшего ни на одну из войн XX века — для одних оно было еще слишком молодо, для других уже слишком старо? В том-то и дело, что все это сразу и еще многое сверх того.
Вот, казалось бы, самая очевидная трактовка: Херш в острой форме страдает постхолокостным синдромом, заставляющим его разыскивать по всему свету троюродного брата, некогда поразившего его подростковое воображение. Брат — авантюрист, аморальный тип, жиголо, проходимец с повадками супермена, но Джейк упорно хочет видеть в нем еврейского мстителя, гоняющегося по миру за ушедшими от возмездия нацистскими преступниками, в первую очередь за доктором Менгеле. Маниакальное упорство в поисках брата, кошмары, мучающие Джейка, его дружба со Штейном, — казалось бы, вывод очевиден. Герой, а вместе с ним романист по-своему отвечают на знаменитый вопрос Адорно: поэтом (вариант — режиссером) после Освенцима быть, пожалуй, можно, а вот евреем — проблематично.
Но Рихлер этот вывод тут же корректирует, точнее, дополняет. Так же или почти так же проблематично быть мужчиной под сорок. И недосостоявшимся киношником. И членом большой мишпухи. И англофоном в Монреале. И канадцем в Лондоне. То есть если пытаться все же коротко сформулировать суть романа, то он о том, что человек, даже вполне вроде бы благополучный, всегда в кризисе. И беспокойство, тревога, вина — они не почему-то, а просто есть, и все тут. А потому самый симпатичный и правильный персонаж нет-нет да и отчебучит такое, что ой-ой-ой.
И еще один вывод, более прикладной что ли. Почти мораль, хотя Рихлер и мораль — две вещи несовместные. Немудреный кодекс снобизма, читай самосохранения. Твоя тусовка — это твоя тусовка, right or wrong. В ней и живи и не пытайся соскочить. Социальный дауншифтинг — это зло. Даны тебе в спутники жизни эти тщеславные, молодящиеся и развратничающие режиссеры, сценаристы и продюсеры — изволь сплетничать с ними, играть в бейсбол и водить жену на их тоскливые приемы. И, ради Б-га, не пытайся осчастливить человека из низов — не успеешь моргнуть, как окажешься в его липком мирке, а там и в добром старом Олд-Бейли.
Михаил Эдельштейн
Как драгоценным винам
Елена Аксельрод
Меж двух пожаров
М.: Время, 2010. — 480 с.
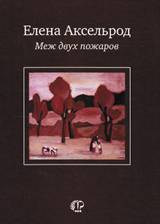
В марте автор нашего журнала поэтесса Елена Аксельрод отмечает юбилей. «Лехаим» поздравляет Елену Мееровну и предлагает вниманию читателей рецензии на две ее последние книги.
Эта книга вобрала в себя стихи разных лет из нескольких сборников, увидевших свет в Москве, Петербурге и Иерусалиме с 1976 по 2006 год. Название ей дали строки стихотворения о неожиданно жарком московском лете после оставленного на время израильского пекла. Однако в стихах Елены Аксельрод горят сполохи сталинского и гитлеровского террора, пожарища второй мировой, непреходящая боль за судьбу близких, за отверженность своего народа, за истребленное или несостоявшееся поколение: «Как сумели мы уцелеть, / как довелось не попасться в сеть / в сороковых, пятидесятых / и прочих задушенных, смятых, распятых / коричнево-красных годах…» Но и в новой, ближневосточной, жизни — отголоски взрывов за окном, беспокойство о будущем страны: «Что будет с нами, мудрецами, / когда орда из-за горы / нахлынет, чтоб сразиться с нами / за Соломоновы шатры?» Жизнь меж двух пожаров — точнее не скажешь.
Обычные человеческие сюжеты: родительский дом, лето и осень, друзья и прощания с ними, старая и нынешняя любовь, Ялта и Прибалтика, надежды и разочарования… Лирическая героиня — тихая, себя не переоценивающая: «потеряна, не узнана, нема», «заплутавшаяся в слове», «нижу судьбу на цепочки стихов моих обреченных», «не вино, а бормотуха в замутившемся бокале», «немое, не пробившееся слово»… Обостренный слух даже и невнятные движения души и природы улавливает: грибной дождь, незавершенный жест, переливчатые тени, сизые блики, «меня влекут полутона — полувесна и полулето, осина еле приодета…» Вполголоса как бы стихи.
Но так точны штрихи и оттенки (отец и сын Елены Аксельрод — художники), и каждое слово — на его единственном месте (мать и дядя — писатели). Культура художественного восприятия и выражения на генетическом, можно сказать, уровне. Образы наглядны, зримы, автор — художник не только в переносном, но часто и в прямом смысле. В стихах — графика («Лишь бы стояло дерево и рисовало загадки тонкими карандашами на ватмане голубом») и акварель («Пруда слегка подкрашенные пятна едва видны сквозь хвою и стволы»), а то и кинематография — с детским голосом, сюжетной интригой, динамизмом глаголов на фоне красок и звуков («На путях»). Стихи без пустого отвала, без вычурности и эпатажа, без словесной эквилибристики. Благородная простота не нуждается в гриме, чистейшая мелодия — в фиоритурах, достоинство не заботится о том, чтобы себя подавать. Слово, которое придает глубину, выразительность и значимость заурядности нашей жизни, проявляет невысказанное чувство, дарует голос безмолвным.
Старик — «чуть замешкались с расстрелом — уцелел, и вот — живет»; старушка с хлебом для чаек и собственным «воздушным белым опереньем», приглаженным щербатой гребенкой; и — опять же старый — поэт со «взглядом погасшим и хмурым»; и еще — обладательница десятиметровой комнатки и истончившейся кастрюли «в солнечной прадедовской квартире» (уплотнили, видно, когда-то прадеда); и — «титаны жили очень просто — в убежище для престарелых». Стоящие у последней черты, чудом уцелевшие обитатели «замученного города», знавшие труд, войну и нищету до конца дней своих. И боль их чувствует автор как собственную, и каждого удостаивает детального портрета.
Стихотворение «Лебедь» — исчерпывающее объяснение нашего нового исхода: «Чужих не принимает стая… / И если не подрежут крылья, / Взовьешься, стать своим мечтая, / И сверзишься, изнемогая / От униженья и бессилья». Отрывок из ненаписанной поэмы «На чужом берегу» построен на коротких, рубленых, трехсложных строках, на хлестких русских — о тщете и бесприютности — поговорках. Это прощальный взгляд поэта на оставленную страну — уже из Израиля. Решительное, безоговорочное утверждение совершенного поступка, расставание со «вчерашним снегом»: «Ни кола, / Ни двора. / Пожила — / И пора. / Крик гусей / На пруду. / По Расее / Иду. / Что мой день, / То и ночь. / Кочка, пень — / Сутки прочь. / Ни родни, / Ни дружка. / Лишь огни / Да река. / То ль в реке, / То ль в пруду / Я беду / Разведу — / На чужом / Берегу. / На вчерашнем / Снегу».
Обида и надежда — вечный лейтмотив. В стихах Елены Аксельрод в предотъездную пору — «холодок ледяной», «снегом засыпанные крыши», «пробирает озноб», «студеная земля», «метельный бред», «ледяной нацелился обрез». Разбойничий свист и вой — ветра и черни. Страшно, зябко.
Но в оставленной стране — ее прекрасная природа (травы и деревья названы по именам), память близких (им посвящены пронзительные, щемящие строки), судьбы ее поэтов («От Черной речки в двух шагах Машук, Елабуга видна с его высот»). И в провезенной через таможню клади, в запасниках сердца бережно сохранены те дома, дворики, улицы, которым мы были преданы, от которых, в собственных глазах, были неотделимы.
Новые географические впечатления: Негев, Иерусалим, Мертвое море, Арад. Путевые зарисовки: Лондон, Париж, Нью-Йорк, Казахстан. Чем утолена душа, перенесенная в новый быт, в новую среду? По-прежнему — воспоминания, общение с близкими, зарисовки природы: «На стене враскорячку задумчивый хамелеон»; инжир, «как Шива, многорук, широкие ладони он дружелюбно к небу протянул». Жизнь в Эдеме, где «персик да инжир свисают с ветки каждой». Опасения за прочность рая — в стихотворении «Песни Израиля»: «Так нежен, так протяжен каждый звук, / Как будто в нем предчувствие разлук, / И сам напев тоскует, предвещая / Г-споден гнев, изгнание из рая». Мирная жизнь. Лишь невзначай глаз примечает Яакова в обнимку с Рахелью, у ног которых, как верный пес, лежит автомат, или танки — их пропускает водитель автобуса, на баранке руля отстукивающий марш.
Самые пронзительные стихи — о цикле человеческой жизни. Острое ощущение конечности бытия, исчезновение стариков, гаснущие в окнах огни. «Соната об уходящих» напоминает «Прощальную симфонию» Гайдна, во время исполнения которой музыканты один за другим постепенно покидают сцену: «Повторятся не раз и торжественный снег, / И на ветках весенних мальчишеский пух, / Легкий бег безнадзорных уклончивых рек, / Смех детей и тяжелые слезы старух. / Сыновей наших этот забывчивый век / Вряд ли будет щадить. Лишь бы свет не потух / В окнах тех, кто им дорог. Пусть хватит огня. / Только это уже без меня».
Стихи о любви преисполнены искренности и глубины, благодарная верность ей звучит памятью о некрашеных веслах над водной гладью, о несбыточном счастливом сне, о дрожи окон в очередном доме «на запятках бытия». Проникновенны строки о сыне — от непонимания жертвоприношения Авраама до — на первом году эмиграции — «я, годовалая, бреду, держась за сына». Кстати, рисунком сына, Михаила Яхилевича, оформлена обложка книги.
В стихах Елены Аксельрод не видно следов трудовых усилий, нарочитости огранки, изысков рифмовки. Ибо она — не мастеровой, но Мастер. Стихи — ее сердцебиение, ее глубокий, на теплом дыхании, голос, ее откровение о сплетении радостей и печалей, ставшее частью и моей души.
Елена Бандас
Книга прощаний
Елена Аксельрод
Двор на Баррикадной. Воспоминания. Письма. Стихи
М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 608 с.

Так случилось, что скромный замысел Елены Аксельрод — написать воспоминания об отце, художнике Меере Аксельроде, и матери, еврейской писательнице Ривке Рубиной, — неожиданно разросся. В семейном архиве обнаружился пакет, содержащий переписку родителей с их друзьями-художниками, в большинстве своем не очень известными, хотя несомненно самобытными, разрабатывавшими еврейскую тематику, то есть пекшимися об искусстве, «национальном по форме». «Мне показалось, — признается автор, — что сохранившиеся в письмах живые голоса могут быть интересны не только мне».
За материалом не нужно было охотиться, он оказался под рукой, к тому же заработала цепкая поэтическая память мемуаристки. Появились воспоминания о детстве, войне, эвакуации в Казахстан, учебе в Московском городском пединституте, послевоенной художественной жизни, об уничтожении еврейской культуры и посмертной судьбе отца. А немного погодя — о Сергее Шервинском, Аркадии Белинкове, Александре Аронове, Юлии Даниэле, Вере Марковой, Евгении Гинзбург, Льве Копелеве, Борисе Чичибабине, Арсении Тарковском, Алле Беляковой, Александре Белоусове, Дмитрии Максимове. О, мягко говоря, своеобразных нравах, царивших в советской литературной и издательской среде. Стихотворные вставки между главами музыкально и эмоционально окрашивают и утепляют сказанное прозой.
Слов нет, мемуаристке повезло с родителями. С раннего детства она получала от них уроки творческой независимости и человеческой порядочности. Чудовищные бытовые условия, безденежье и бездомье, пренебрежение со стороны заправил творческих союзов не превратили Меера и Ривку в злобных угрюмцев. Они всегда работали самозабвенно, с полной отдачей, были доброжелательны, открыты для дружеского общения, хлебосольны (в пределах доступности хлеба и соли). Им никогда не изменяли ни чувство юмора, ни способность радоваться чужим успехам.
«Из гостей-писателей я больше всех любила Льва Квитко, он был “своим”, открытым, веселым», — вспоминает автор и отмечает его «нежность, искренность, наивность и мудрость». И доверчивость. Этой самой доверчивостью, на ее взгляд, «страдали все трагически погибшие еврейские писатели». Перец Маркиш поразил ее своей «байронической красотой». Бывали у них в доме и Давид Бергельсон, и Самуил Галкин. Ривка создавала их литературные портреты, Меер — живописные и графические, иллюстрировал их книги.
Незаживающая семейная рана Аксельродов — трагическая гибель Зелика, брата Меера, идишского поэта, жившего в Белоруссии, обвиненного в причастности к «писательской националистической организации», арестованного и расстрелянного во время эвакуации минской тюрьмы. Впоследствии его стихи были переведены на русский язык — в основном племянницей, — и вышла книга, «пробитая» и составленная Ривкой (она же — автор предисловия) и оформленная Меером. Такой вот «семейный подряд», вызванный к жизни всеобщим равнодушием.
В 1966 году Арсений Тарковский сказал по поводу работ Меера Аксельрода: «Это прекрасный пример того, как выгодно быть честным и чистым человеком… Вы видите <…> какие прекрасные плоды это приносит, как дорого то, что делается с людьми такого рода, которые с подлинно святым упрямством пробиваются сквозь все преграды»…
«Дом на Баррикадной», несмотря на постоянно проявляющееся в ней чувство юмора автора, — грустная книга. Еще бы! Ведь это книга прощаний. С близкими и родными, которых уже не вернешь, с картинами отца, которые постепенно расходятся по музеям, галереям, частным собраниям.
Хотя, казалось бы, не все так уж мрачно. Отца, хоть с опозданием, но ведь признали! Мать доказала, что она не только переводчица, но и своеобразный идишский прозаик. Сама Елена по праву считается одной из интереснейших современных русско-еврейских поэтесс. Ее сын, художник Михаил Яхилевич, — достойный продолжатель семейных традиций.
И все же… Сколько страданий выпало на долю этой семьи! Сколько горя хлебнули персонажи мемуаров Елены Аксельрод! Сколько невоплощенных замыслов, несостоявшихся судеб…
Ваш поезд оторвался от вокзала. / И места нет ни вздоху, ни упреку. / Как мало память мне о вас сказала, / Но я уже от вас неподалеку. / Наш век отколесил, расставшись с вами — / Такими прошлыми и молодыми. / Неузнаваемыми легкими руками / Обнять бы вас, свое напомнить имя. / Но лиц не видно, только плечи, спины. / Во времени чужом мы инородцы. / Летит наш паровозик нафталинный, / По рельсам поролоновым несется.
Марк Вейцман
Андрей Крусанов. Русский авангард. Т. 1, кн. 1—2; т. 2, кн. 1—2.
М.: Новое литературное обозрение, 2003–2010.
Издание этого фундаментального труда растянулось почти на полтора десятилетия — первый вариант первого тома, в значительно меньшем объеме, появился еще в 1996 году. В уже вышедших четырех книгах в общей сложности 3500 страниц. А ведь будет еще и третий том, где повествование, ныне заканчивающееся 1921 годом, планируется довести до начала 1930-х. Автор собрал бесценный материал, прежде всего газетный, по которому можно изучать историю русского авангарда как в столицах, так и в провинции, от Вильны и Риги до Херсона и Екатеринослава. Среди «героев» Крусанова — Ларионов и Фальк, Бурлюк и Баранов-Россине, Кандинский и Бакст. Цитатам отведено важное место, иные тексты воспроизводятся страницами. Вот, например, газета «Раннее утро» 7 ноября 1916 года пишет об участниках выставки группы «Бубновый валет»: «Работы М. Шагала возбуждают, пожалуй, острый интерес, но в его работах больше литературы, чем живописи. Его наивный подход к натуре нисколько не убедителен. Это — желание взрослого человека быть ребенком и смотреть на мир глазами ребенка». Из таких замечаний и складывается в итоге биография художника; восприятие современников оказывается не менее важно, чем понимание потомков.
Der «Blaue Reiter». Ein Tanz in Farben. Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik aus dem Lenbachhaus («Синий всадник». Цветной танец). Hrsg. Helmut Friedel und Annegret Hoberg
München: Hirmer Verlag, 2010. — 368 s.
В мюнхенском музее художника Франца фон Ленбаха, известном как Ленбаххаус, хранится одна из крупнейших в мире коллекций графики экспрессионизма. Акварели, рисунки и печатные работы из этой коллекции собраны в альбоме, вышедшем по случаю выставки в самом мюнхенском музее, а затем в венской Альбертине. Здесь представлены работы Генриха Кампендонка и Пауля Клее, Альфреда Кубина и Александра Сахарова, Эдуарда и Эльзы Шиман, не говоря уже об основателях течения: Кандинском, Явленском, Габриэль Мюнтер и Марианне Веревкиной. Особый интерес вызывает наследие Эльзы Ласкер-Шюлер (1869–1945), чьему творчеству в последнее время посвящена не одна персональная выставка (см., например: Лехаим. 2010. № 12). Поэт, автор сборника «Еврейские баллады» (1913), она занималась и изобразительным искусством, ее персонажи существовали одновременно в двух мирах — мире слов и мире образов. В первую очередь это касается фигуры Юсуфа, он же Йосеф Египетский. Как пишет автор каталожной статьи о Ласкер-Шюлер Елена Перенья, «ветхозаветный, инсценирующий сказочный Восток мир Юсуфа служит Ласкер-Шюлер сценой, на которой соединяются воедино фантазия и биография». Ее собственная биография состояла, увы, не из одних сказок: ранняя смерть сына, бегство в 1933-м из Германии после нападения штурмовиков, жизнь в эмиграции, болезнь и смерть в Иерусалиме — литературный сюжет, слишком горький, чтобы быть адекватно воплощенным.
Над аннотациями работал Алексей Мокроусов
Цадик из Белоруссии. Духовный наставник евреев-земледельцев на юге Украины. Автор-составитель Меир Ленау
Израиль, 2010. — 110 с.
В этой книге религиозная жизнь со всеми ее атрибутами, с традиционными хасидскими сюжетами, связанными воедино образом безмятежного праведника рабби Гилеля из Парича, представлена подробно и детально. Рассказы с «моралью», завершенные историей чудесного обретения могилы праведника, без особых бытовых подробностей (кроме кратких упоминаний о еврейских земледельческих колониях) и привязок к окружающей нееврейской жизни, — все это располагает к медленному безмятежному чтению и назидательному пересказу в соответствующей ситуации. Внутренний драматизм, если он и есть, ограничивается исключительно разнообразием мнений и позиций тех или иных раввинов-законоучителей. Даже страшные истории о смешанных браках кончаются хорошо — прозревшие евреи возвращаются в лоно иудаизма и расстаются со своими нееврейскими женами и нееврейскими же детьми. Нет, это никак не руководство к действию, просто автор-составитель хочет сказать: «Вот как оно бывало в добрые старые времена».
Кинки Фридман. Убить двух птиц и отрубиться / Пер. с англ. А. Степанова
СПб.: Лимбус Пресс; Издательство К. Тублина, 2011. — 286 с.
Фридманов на свете много (среди них банкир, математик, архитектор, цадик и целых два нобелевских лауреата — экономист и астрофизик), однако Ричарда Фридмана (прозвище Kinky — Кудрявчик — он получил из-за «дурацкой еврейской шевелюры») ни с кем из них не перепутаешь. Кантри-певец, основатель группы «Kinky Friedman and The Texas Jewboys», актер, снимавшийся в «Техасской резне бензопилой», друг Билла Клинтона, защитник бродячих животных, кандидат в губернаторы Техаса и проч., и проч., он еще и автор 17 книг, большинство из которых написаны от первого лица. Но если, например, в романе «Элвис, Иисус и кока-кола» (переведен на русский в 2004-м) автор укладывает свое «я» в прокрустово ложе одного лирического героя, то в «Убить двух птиц и отрубиться» он дарит свои черты двум персонажам разом — писателю-лузеру Уолтеру и безбашенной красотке-мошеннице с мужским именем Клайд (она без труда взламывает полицейский сайт, но путает бат мицву с бар мицвой). Эти две «половинки» автора вместе с цыганским бароном Фоксом забавляются хулиганскими перформансами — то выкрадывают буйнопомешанного из психушки, то устраивают вечеринку для бездомных на средства, украденные с карты Дональда Трампа. Автор настраивает читателя на легкомысленный лад, но веселые авантюры, изрядно приправленные выпивкой и дурью, завершаются трагедией. Войнушка со «Старбаксом», начавшись как флэшмоб, перерастает в провокацию: евреев-ортодоксов стравливают с черными мусульманами, начинается стрельба, пролита кровь… Реальная жизнь не может быть безостановочной игрой — к такому выводу приходит читатель, хотя сам автор, разумеется, избегает нравоучений: те, у кого на плечах голова, а не кочан, и так все поймут, а тратить время на дураков Кинки Фридману неохота…
Над аннотациями работали Михаил Липкин и Роман Арбитман
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.